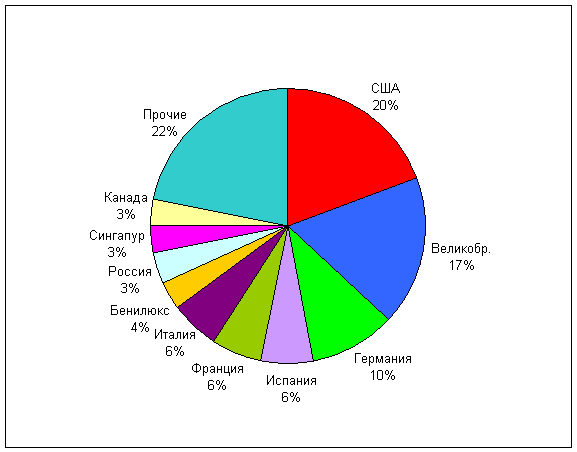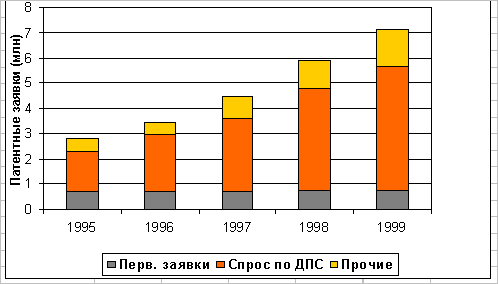Сочетание
защиты
прав на
интеллектуальную
собственность
с политикой в
области
развития
Отчет
Комиссии по правам
на
интеллектуальную
собственность
Лондон
2003 г.
Опубликовано
Комиссией
по правам на
интеллектуальную
собственность
Вся
корреспонденция
через
Министерство
по делам
международного
развития
Палас
Стрит 1
Лондон
SW1E 5HE
Телефон:
020 7023 1732
Факс: 020 7023
0797 (вниманию
г-на Чарльза
Клифта)
Электронная
почта: ipr@dfid.gov.uk
Web-сайт: http://www.iprcommission.org
Сентябрь
2002 г.
Ноябрь
2002 г. (2-е издание)
Полный
текст отчета
и краткого
изложения можно
загрузить с web-сайта
Комиссии по
правам на
интеллектуальную
собственность:
http://www.iprcommission.org
Для
получения
распечатки
отчета и
дополнительной
информации необходимо
связаться с
секретарем
Комиссии по
вышеуказанному
адресу.
©
Комиссия по
правам на
интеллектуальную
собственность
2002 г.
Дизайн
и печать
Dsprint/reдизайн
Джут
Лейн 7
Бримсдаун
Энфилд
EN3 7JL
ЧЛЕНЫ
КОМИССИИ
Профессор
Джон Бартон
(председатель)
Профессор
права,
кафедра им.
Джорджа E. Осборна,
Стэнфордский
университет,
Калифорния, USA
Г-н
Даниель
Александр
Барристер,
специализирующийся
на вопросах
прав на
интеллектуальную
собственность,
Лондон,
Соединенное
Королевство
Профессор
Карлос Корреа
Директор
программы на
степень
магистра по
научно-технической
политике и
менеджменту,
университет
Буэнос-Айреса,
Аргентина
Д-р
Рамеш
Машелкар,
член
Королевского
общества
Генеральный
директор
Совета
научно-промышленных
исследований
Индии,
Секретарь научно-промышленного
ведомства,
Дели, Индия
Д-р
Гилл
Самуэльс,
кавалер
Ордена
Британской
империи
Старший
директор по
научным
делам и программам
(Европа),
Пфайзер Инк.,
Сэндвич,
Соединенное
Королевство
Д-р
Сэнди Томас
Директор
совета
Нуффилда по
биоэтике,
Лондон,
Соединенное
Королевство
СЕКРЕТАРИАТ
Чарльз
Клифт
начальник
секретариата
Фил Торп
специалист-аналитик
в области
политики
Том
Пенгелли
специалист-аналитик
в области
политики
Роб Фиттер
научно-исследовательский
работник
Брайен Пенни
менеджер
офиса
Карол
Оливер личный
помощник
ПРЕДИСЛОВИЕ
В мае 2001 года
министр по
делам
международного
развития
Клэр Шорт
учредила
Комиссию по
правам на
интеллектуальную
собственность.
Члены
комиссии
представляют
разные страны
с разной
историей и
разными
мнениями.
Каждый из нас
имеет свою
особую точку
зрения,
представляя
развитые и
развивающиеся
страны и
области
науки, права,
этики и
экономики, а
также сферы
промышленности,
правительственных
учреждений,
учебных и
исследовательских
заведений.
Я считаю, что
мы добились
большого
успеха, достигнув
согласия по
множеству
вопросов, касающихся
самого
подхода и
основных
принципов.
Как видно из
названия, мы
считаем, что
необходимо
сочетать
задачи
развития с разработкой
политики по
правам на
интеллектуальную
собственность
как на
национальном,
так и на
международном
уровне; в
нашем отчете
указано, как
это
осуществить
на деле.
Хотя
Комиссия
назначена
британским
правительством,
нам была
предоставлена
полная
свобода
действий в
отношении
повестки дня,
рабочих
программ,
выводов и
рекомендаций.
Нам предоставили
время и
финансовую
поддержку
для работы
над
выяснением
многих проблем
путем
анализа,
исследований,
организации
встреч-семинаров,
конференций
и совещаний с
официальными
лицами и
группами,
имеющими
отношение к
данному
вопросу, в
различных
странах мира.
Мы хотели бы
выразить
особую благодарность
за поддержку,
оказанную
нам членами
секретариата,
выделенного
министерством
по делам
международного
развития и британским
патентным
ведомством.
Наше первое
совещание
состоялось 8-9
мая 2001 года, и с
тех пор было
проведено
еще семь. Все
мы, в полном
или частичном
составе
Комиссии,
посетили Бразилию,
Китай, Индию,
Кению и Южную
Африку, где
консультировались
с
официальными
лицами и
сотрудниками
государственного
и частного
секторов, а
также с
неправительственными
организациями
в Лондоне,
Брюсселе,
Женеве и
Вашингтоне. Мы также
посетили
научно-иследовательский
отдел фирмы
Пфайзер в
Сэндвиче. В конце
отчета
приводится
перечень
главных
учреждений, с
которыми
проводились
консультации.
Мы заказали
работу над
семнадцатью
рабочими
документами
и провели в
Лондоне
восемь
встреч-семинаров
по разным
аспектам
интеллектуальной
собственности.
21-22 февраля 2002
года мы также
провели в Лондоне
большую
конференцию
с целью услышать
различные
вопросы,
поставленные
представителями
разных точек
зрения. Мы считаем,
что такого
рода встречи
сами по себе
явились
важной
частью нашей
работы. Они позволили
собрать
вместе
разных
представителей,
способствуя
диалогу и
изучению возможности
достижения
прогресса по
целому ряду
вопросов.
Наши задачи
заключались
в следующем:
·
Рассмотреть,
как лучше
разработать
режимы прав
на
интеллектуальную
собственность
(ПНИС) с
пользой для
развиваиющихся
стран в
контексте
международных
соглашений, в
том числе
ТРИПС;
·
Рассмотреть,
как улучшить
и развить
международные
рамки правил
и соглашений,
например, в
области
традиционных
знаний, а
также связь
правил ПНИС с
режимами
доступа к генетическим
ресурсам;
·
Провести
анализ более
широкой
картины, дополняющей
режимы защиты
интеллектуальной
собственности,
в том числе,
например,
осуществление
контроля над
случаями
антиконкурентной
практики
путем
поощрения
политики
конкуренции
и введения
соответствующего
законодательства
Мы с самого
начала
решили
стараться
вырабатывать
компромиссные
решения,
удовлетворяющие
все
заинтересованные
группы, но
при этом
работать на
основе
фактов и
доказательств,
что
оказалось
нелегкой
задачей, так
как
имевшиеся у
нас факты
зачастую
носили
неполный
характер или
не давали
оснований
для выводов. Однако
с помощью
нашего
секретариата,
а также
консультаций
и заказанных
нами исследовательских
работ, мы
смогли
установить ряд
фактов,
которые
затем были
тщательно проанализированы.
Мы также с
самого
начала
осознали, что
среди стран
(со средним
или низким
доходом на
душу
населения)
важно различать
страны со
значительным
научно-техническим
потенциалом
и страны, где
такого потенциала
нет. Мы
пытались
изучить
реальное
воздействие
проблемы
интеллектуальной
собственности
как
положительное,
так и
отрицательное
в каждой
такой группе
стран. Мы
решили сосредоточить
наши усилия
на вопросах,
представляющих
интерес для
беднейших
слоев населения
в странах с
никзким и
средним доходом.
Содержание
настоящего
отчета было
нами согласовано.
Наша цель
выработать
практические
и
сбалансированные
решения. Невзирая
на то, что мы
иногда
следовали
советам других
сторон, мы
берем на себя
всю ответственность
за выводы
отчета. Мы
надеемся, что
выполнили
свое задание,
и что отчет
будет представлять
собой
ценность при
обсуждении вопроса
о том, как
права на
интеллектуальную
собственность
могут
послужить
задаче поощрения
развития
стран, и
снижению
уровня
бедности.
От имени
Комиссии мне
хотелось бы
поблагодарить
всех тех, кто
внес вклад в
наши обсуждения,
и особенно
тех, кто
подготовил
рабочие
документы;
это граждане
разных стран,
которых
очень много,
и назвать их
поименно не
представляется
возможным.
В
заключение,
мне хотелось
бы
поблагодарить
Клэр Шорт и
британское
министерство
международного
развития за
дальновидное
решение о создании
Комиссии по
правам на
интеллектуальную
собственность.
Мне выпала
честь быть ее
председателем,
и как для
меня так и для
остальных
членов
Комиссии это
был чрезвычайно
интересный
период
работы.
Задание было
нелегким, и
мы с радостью
воспользовались
возможностью
расширить
свои знания и
обменяться
опытом, учась
друг у друга
и у всех тех,
кто внес свой
вклад в
работу
Комиссии.
ДЖОН
БАРТОН
Председатель
Комиссии
ВВЕДЕНИЕ
Вряд ли
многие из
тех, чья
работа
связана с вопросами
ИС, сочтут
настоящий
отчет легким
чтением, что
является для
профессора
Бартона и
членов его
Комиссии
самым большим
комплиментом.
Это также
доказательство
дальновидности
и смелости
решения министра
по делам
международного
развития Клэр
Шорт,
распорядившейся
о
сформировании
Комиссии и, в
первую
очередь,
задавшей
рамки ее
работы.
Возможно,
что время, в
которое мы
живем, каким-то
образом
поощряет
слепое
следование догматическим
постулатам.
Это
ощущается во
многих
жизненных сферах,
и, несомненно,
оказывает
влияние и на
сферу прав на
интеллектуальную
собственность.
С одной стороны,
в развитых
странах
существует
мощное лобби,
твердо
уверенное в
том, что все
ПНИС
являются
положительным
фактором
деловой
активности и
жизни
общества в
целом, а также
двигателем
технического
прогресса. Эти
люди считают,
что если ПНИС
- это хорошо,
то чем больше
таких прав,
тем лучше. С
другой
стороны, в
развивающихся
странах
раздаются
громкие
голоса тех,
кто считает,
что ПНИС
наносят
ущерб
процессу
развития
местной
промышленности,
технологии и
ущемляют
местное население.
Они
утверждают,
что ПНИС
приносят пользу
лишь
развитым
странам. Это
лобби придерживается
мнения о том,
что что если
ПНИС - это
плохо, то чем
их меньше,
тем лучше.
Процесс
внедрения
ТРИПС не
повлиял на
сужение пропасти
между этими
двумя
позициями, наоборот,
он лишь
укрепил
каждую
сторону в своем
мнении. Те,
кто ратует за
расширение ПНИС
и за так
называемую
«ровную
игровую площадку»,
хвалят ТРИПС,
как полезное
орудие в достижении
своих целей.
Те же, кто
считают, что
в
развивающихся
странах ПНИС
имеет
пагубный
эффект,
утверждают,
что «игровая
площадка
экономики»
была и до
ТРИПС
неровной, и
что ТРИПС
лишь
усугубляет
это неравенство.
Обе стороны
настолько
твердо и
искренне
придерживаются
своих
взглядов, что
зачастую
кажется,
будто ни одна
из них не
готова
уступить,
полагая, что
«нужно
заставлять, а
не убеждать».
Вне
зависимости
от того,
насколько
плохи или
хороши ПНИС,
развитые
страны в
течение продолжительного
периода
времени имели
возможность
приспособиться
к ним. Даже
если
недостатки
иногда и
перевешивают
преимущества,
в развитых
странах, в целом,
существует
достаточно
сильная экономика
и имеются
налаженные
правовые механизмы
для решения
возникающих
проблем. Когда
же
преимущества
перевешивают
недостатки,
развитые
страны, с их
богатством и
инфрастуктурой,
вполне в
состоянии
воспользоваться
предоставленными
возможностями.
Этого, однако,
никак нельзя
сказать о
развивающихся
или наименее
развитых
странах.
В этих
условиях,
британский
министр
решила
создать
Комиссию, в
задачи
которой,
среди прочего,
вошло бы
рассмотрение
вопроса о
том, как
найти оптимальное
решение в
разработке национальных
положений о
ПНИС так,
чтобы они принесли
пользу
развивающимся
странам. В задании
предполагалось,
что ПНИС -
средства, способные
как помочь,
так и нанести
ущерб странам
со слабой
экономикой.
Состав
Комиссии представлял
собой
впечатляющий
срез высококвалифицированных
представителей
всех сторон.
Комиссия
провела
обширные
консультации.
Результатом
работы
комиссии
явился этот весьма
внушительный
отчет.
Хотя, по
заданию, от
Комиссии
требовалось
уделить
особое внимание
интересам
развивающихся
стран, здесь
были также
приняты во
внимание
мнения, интересы
и доводы тех,
кто
придерживается
противоположной
точки зрения.
В задании
говорится,
что без
серьезной и
объективной
оценки влияния
более
высоких
станодартов
ИС на развитие
развивающихся
стран не
следует им навязывать
такие
стандарты.
Поэтому Комиссия
провела
большую
работу по
выработке такой
оценки. Отчет
содержит
практические
рекомендации,
отвечающие
разумным
требованиям
обеих сторон.
Мало,
однако,
просто
разработать
ряд практических
предложений.
Необходимо
также, чтобы
они были
приняты и
внедрены.
Здесь, опять-таки,
важную роль
играет
Комиссия.
Настоящий
отчет не
является
результатом
работы какой
бы то ни было
группы
давления.
Комиссия
была создана
для
выработки самой
беспристрастной
оценки
положения дел
и выработки
соответствующих
рекомендаций.
Порученное
ей задание и
сам состав
Комиссии
должны
послужить
стимулом
для
заинтересованных
сторон,
побуждая их
серьезно
отнестись к
выводам
Комиссии.
ПНИС
слишком
долго
считались
«пищей» богатых
и «отравой»
для бедных
стран. Я
надеюсь, что
настоящий
отчет
показал, что
дело обстоит
не так
просто.
Бывает, что
ПНИС полезны
для бедных
стран, при
условии, что
приготовлены
они «в
соответствии
с местной
кухней».
Комиссия
считает, что
для каждой
развивающейся
страны необходимо
выбрать
конкретное,
для нее одной
подходящее
«питание», на
основе того,
что лучше
всего
подходит для
развития
такой страны,
а
международное
сообщество и
правительства
всех стран должны
принимать
решения с
учетом этого
фактора. Я
очень надеюсь,
что
настоящий
отчет явится
для них стимулом
в этом
направлении.
СЭР ХЬЮ
ЛЭДДИ
Судья по
патентам,
Верхновный
суд Соединенного
Королевства
СОДЕРЖАНИЕ
ЧЛЕНЫ
КОМИССИИ ii
ПРЕДИСЛОВИЕ
iii
ВВЕДЕНИЕ
vi
ОБЩИЙ ОБЗОР
ВВЕДЕНИЕ
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
НАШЕ
ЗАДАНИЕ
Раздел
1:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
И РАЗВИТИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ДОВОДЫ,
ВЫДВИГАЕМЫЕ
В ПОЛЬЗУ
ЗАЩИТЫ ИС
Введение
Патенты
Авторские
права
ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКАИНФОРМАЦИЯ
ФАКТЫ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ
О
ВОЗДЕЙСТВИИ
ИС
Контекст
Перераспределительное
воздействие
Рост экономики
и
изобретательство
Торговля
и инвестиции
ПЕРЕДАЧА
ТЕХНОЛОГИИ
Раздел 2:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Аспекты
обзора
Рассматриваемые
аспекты
Справочная
информация
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ
Стимулирование
научно-исследовательской
деятельности
ДОСТУП
БЕДНЫХ СЛОЕВ
НАСЕЛЕНИЯ К
МЕДИЦИНСКИМ
ПРЕПАРАТ АМ Степень
распространенности
патентования
Патентование
и цены
Другие
факторы,
влияющие на
доступность к
медицинскимх
препаратамов
ЗНАЧЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ПОЛИТИКИ В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ
Возмиожные
варианты государственнойнaциональной
политики
Принудительное
лицензирование
в странах с
недостаточным
производственным
потенциалом
Законодательство
развивающихся
стран
Принятое в
Дохе
продление
сроков для
наименее
развитых
стран
Раздел 3:
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ
ВВЕДЕНИЕ
ОбщаяСправочная
информация
Права
на
интеллектуальную
собственность
в сельском
хозяйстве
РАСТЕНИЯ
И ЗАЩИТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Введение
Научно-исследовательская
деятельность
и развитие
Эффект
системы
Защиты
культур
растений
Эффект
патентования
Заключение
ДОСТУП К
ГЕНЕТИЧЕСКИМ
РЕСУРСАМ
РАСТЕНИЙ И
ПРАВА
ФЕРМЕРОВ
Введение
Фермерские
права
Многосторонняя
система
Раздел
4:
ТРАДИЦИОННЫЕ
ЗНАНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
ТРАДИЦИОННЫЕ
ЗНАНИЯ
Справочная
информация
Природа
традиционных
знаний и цель
их защиты
Руководство
дебатами по
традиционным
знаниям
Использование
существующей
системы ИС
для защиты и
поощрения
традиционных
знаний
Специфические
формы защиты (sui generis) традиционных
знаний
Неправомерное
владение
традиционными
знаниями
ДОСТУП И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЫГОД
Справочная
информация
Конвенция
по
биологическому
Разнообразию
(КБР)
Раскрытие
географических
источников
генетических
ресурсов в
патентных
заявках
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ
Справочная
информация
Географические
названия и
ТРИПС
Многосторонний
реестр
географических
названий
Экономическое воздействие географических названий
Раздел
5: ЗАЩИТА
АВТОРСКИХ
ПРАВ,
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ
ВВЕДЕНИЕ
ЗАЩИТА
АВТОРСКИХ
ПРАВ В
КАЧЕСТВЕ
ТВОРЧЕСКОГО
СТИМУЛА
Общества
по сбору
лицензионных
платежей
ПОЗВОЛЯТ
ЛИ ПРАВИЛА
ЗАЩИТЫ
АВТОРСКИХ
ПРАВ
РАЗВИВАЮЩИМСЯ
СТРАНАМ
СОКРАТИТЬ
«ПРОПАСТЬ
ЗНАНИЙ»?
ОТРАСЛИ,
СВЯЗАННЫЕ С
ЗАЩИТОЙ
АВТОРСКИХ ПРАВ,
И
КОНТРАФАКТНЫЕ
КОПИИ
ЗАЩИТА
АВТОРСКИХ
ПРАВ И ДОСТУП
Образовательные
материалы
Библиотеки
ЗАЩИТА
АВТОРСКИХ
ПРАВ И
КОМПЬЮТЕРНОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНТЕРНЕТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
НА ПОЛЬЗУ
РАЗВИТИЯ
Технологические
ограничения
Раздел 6:
ПАТЕНТНАЯ
РЕФОРМА
ВВЕДЕНИЕ
РАЗРАБОТКА
ПАТЕНТНЫХ
СИСТЕМ В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ
Введение
Рамки
патентоспособности
Стандарты
патентоспособности
Исключения
из правил,
касающихся
патентных прав
Обеспечение
гарантий
патентной
политики
Поощрение
местного
новаторства
Выводы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СЕКТОРА
Введение
Факты
и
доказательства
из США
Факты
и
доказательства
из развивающихся
стран
КАК
СИСТЕМА
ПАТЕНТОВАНИЯ
МОЖЕТ
ЗАТРУДНИТЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИННОВАЦИИ
Положение
дел в
развитых
странах
Отношение
к
развивающимся
странам
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ГАРМОНИЗАЦИЯ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
Общая
информация
Договор
ВОИС об
основном
патентном
законодательстве
Раздел
7:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗРАБОТКА
ПОЛИТИКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ИС
Разработка
интегрированной
политики
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
И УЧРЕЖДЕНИЯ
ПНИС
Введение
Людские
ресурсы
Информационные
тeхнологии
СИСТЕМА
РАССМОТРЕНИЯ
И АНАЛИЗА В
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
СИСТЕМЕ
РЕГИСТРАЦИИ
Региональное
и
международное
сотрудничество
ЗАТРАТЫ
И ДОХОДЫ
Затраты
на систему ИС
Оплата
расходов
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
Правоприменение
в
развивающихся
странах
Правоприменение
в развитых
странах
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Текущие
программы
Оценка
эффекта
технической
помощи
Финансирование
дальнейшей
технической помощи
Обеспечение
эффективной технической
помощи
Раздел 8:
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
ВВЕДЕНИЕ
ЗАДАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ -
ВОИС И ВТО
СОГЛАШЕНИЕ
ТРИПС
Помощь
развивающимся
странам по
внедрению
ТРИПС
Временной
график
внедрения
ТРИПС
ИС В
ДВУСТОРОННИХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЯХ
УЧАСТИЕ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН
Постоянное
представительство
в Женеве
Делегации
специалистов
РОЛЬ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
УГЛУБЛЕНИЕ
ПОНИМАНИЯ
ВОПРОСОВ ИС И
РАЗВИТИЯ
СОКРАЩЕНИЯ
ГЛОССАРИЙ
ВЫРАЖЕНИЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
ОБЩИЙ
ОБЗОР
ВВЕДЕНИЕ
В
приуроченных
к
двухтысячелетней
дате «Задачах
развития»
указывалось
на важность снижения
уровня
бедности и
числа
голодающих в
мире,
улучшения систем
здравоохранения
и
образования
и обеспечения
экологической
устойчивости.
Международное
сообщество
обязалось к 2015
году
наполовину
снизить
численность
бедных слоев
населения и
улучшить соответствующиевязанные
с этим
показатели
здравоохранения,
образования
и
экологической
устойчивости.
В 1999 году
около 1.2
миллиарда
человек жили
меньше, чем
на 1 доллар в день,
и почти 2.8
миллиарда
менее, чем на 2
доллара в
день.[1]
Из них,
примерно, 65%
проживали в
южной и
восточной
Азии и 25% в
Африке, к югу
от Сахары. Примерно
3 миллиона
человек в 2001
году умерли от
ВИЧ/СПИДа, 2.3
миллиона из
них в Африке,
к югу от
Сахары.[2] . В
результате
заболеванияНа
туберкулезом
ежегодно умираютприходится
около 1.7 миллиона
человекмиллионов
смертей.[3]
Если такая
такая
тенденция
сохранитсяпродолжится,
то в 2005 году туберкулезом
заболеютбудет
еще 10.2
миллионов человекзаболеваний.[4]
От малярии
ежегодно
умирают
свыше 1
миллиона человек
.[5]
В 1999 году
начальное
образование
было недоступно
более, чем 120
миллионам
детей. В процентном
отношении меньше
всего детей
посещают школуМеньше
всего детей
ходят в
школу в
Африке, к югу
от Сахары,
где школу
посещаюют
лишь 60% детей.[6]
Наша
задача заключается
в том, чтобы
проанализировать,
смогутмогут
ли права на
интеллектуальную
собственность
(ПНИС)
сыграть
какую-то роль
в достижении
всех этих
необходимых
целей, и
какова ониее
будут, в
частности,
будет эта
роль в деле играть
в вопросах
снижения
уровня
бедности,
борьбы с
болезнями,
улучшения
здоровья
матери и
ребенка, облегчения
доступа к
образованию
и содействия
устойчивому
рвазвитию.
В нашу задачу
входит также
рассмотрение
вопроса о
том, не являются
ли эти
праваони ,
возможно,
препятствием
на таком
пути, и как эти
препятствияего
устранить.
Существует
мнение о
том, Некоторые
убеждены,
что ПНИС
содействуют
экономическому
росту и
снижению
уровня
бедности благодаря
стимулированиюем
изобретательства
и новых технологий,
что
приводит, при
приводя,
при этом, к
росту
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства,
увеличению
иностранных
инвестиций,
передаче
технологии и
доступности медикаментов
лекарств
для борьбы с
болезнями.
Согласно
эётому
мнениюПо
их словам, нет
причины, по
которой бы
то, что оказалось
столь
эффективным
в развитых
странах,
стало бы
вдруг
неэффективным
в развивающихся
странах.
Есть и
те, кто
страстно
утверждают
обратное.
Ввиду
отсутствия
необходимого
кадрового и
технического
потенциала,
считают они,
права на ИС
вряд ли могут
стимулировать
изобретения
в
развивающихся
странах. Они
неэффективны
в
стимулировании
научно-исследовательской
работы по
темам в
волпросах,
касающимхся
бедных слоев
населения, да
те и не
смогут
позволить
себе приобретать
новые
изделия, даже
если таковыеие
будут
разработаны.
Утверждается,
что они ограничивают
процесс
технологического
обучения, и -
благодаря
патентной
защите - повторениемпозволяют
иностранным
фирмам избавлятьсяиться
от местных
конкурентов,ем
затоваривая
рынок
импортом, а
не изделиями
местного производства.
Более того,
сторонники
этой точки
зрения
считают, что
ПНИС
приводят к росту
цен на жизненно-необходимые
медикаментылекарства
и повышают
стоимость
сельскохозяйственного
производства, чтоособо
особенно
отрицательное
сказываетсяясь
на бедных
слоях
населения и
фермерах.
При
анализе
вышеупомянутых
противоположных
точек зрения
важно
помнить о
технологической
групповой
разнице
между группой
развитых и
группой
развивающихся
стран. На
низко- и
среднедоходные
развивающиеся
страны
приходится
около 21% мирового
ВВП,[7] но менее 10%
мировых
затрат уходит
на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность.[8] Средства,
которые
страныСтраны
ОЭСР расходуюттратят
на такую
деятельность,
намного превышают
национальный
доход такой
страны как
Индиябольше
всего
национального
дохода Индии.[9]
Почти все,
без
исключения,
развивающиеся
страны
являются
чистыми
импортерами
технологии.
Важно
осознавать,
насколько
разными бывают
развивающиеся
страны в том,
что касается
отношении
их
социально-экономических
обстоятельств
и
технологического
потенциала.
Свыше 60% бедных
слоев
населения
мира живут в
странах со
значительным
научно-техническим
потенциалом,
большинство
из них - в
Китае и Индии. В них и в
рядеВ этих и
меньших
развивающихся
странах
существует
первоклассный
научно-технический
потенциал по
целому ряду
научно-технологических
областей,
включая,
например, космические
исследования,
ядерную
энергетику,
компьютеры,
биотехнологию,
фармацевтику,
разработку
программного
обеспечения
и авиацию.[10] В
то же время, 25%
бедных слоев
населения живущих
в Африкие,
к югу от
Сахары (за
исключением
Южной Африки),
живут, в
основном, в
странах со
сравнительно
неразвитой
технологического
базой.[11] По
оценкам, в 1994
году на
Китай, Индию и
Латинскую
Америку
совместно
приходилось
около 9%
мировых
затрат на
научно-исследовательскую
деятельность,
однако на
Африку, к югу
от Сахары,
лишь 0.5% , а на
развивающиеся
страны,
за
исключением
Китая и Индии,
лишь около 4%.[12]
Развивающиеся
страны, однако,
далеко не
однородны
об этом
очевидном
факте
нередко
забывают. Они
обладаютУ
них не
только
разнымй
научно-техническимй
потенциалом,
но и разнымие
социально-экономическимие
структурамиы
и степенью
неравенства
доходов и
богатства. В
соответствии
с этим, в
разных
странах -
разные виды
бедности, а значит
нужна и
соответствующая
политика ее
преодоления.
Аналогичные
доводы
применимы и в
отношении
ПНИС. В этой
области
политика в
странах со
сравнительно
высоким
научно-техническим
потенциалом,
например, в
Китае и
Индии, где, по
статистике,
живет большинство
представителей
бедных слоев
населения
мира, может
отличаться
от стран с
низким
потенциалом, таких,
например, как
большинство
стран Африки,
к югу от
Сахары. Влияние
программ ИС
на бедные
слои населения
зависит
также и от
конкретных
социально-экономических
обстоятельств.
То, что
подходит для
Индии, не
обязательно,
например,
подойдет для
Бразилии или
Ботсваны.
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
В
течение,
примерно,
последних
двадцати лет
уровень,
масштабы, территориальное
распространение
и роль права
на ИС
невероятно
возросли.[13] Это
проявляется
в следующемСреди
проявлений
этого:
·
Патентование
живых
организмов и
природных
материалов, в
противоположность
изделиям и
процессам,
которые
неспециалисту
легче
принять в
качестве
изобретений.
·
Модификация
защитных
режимов с
целью учета
новых
технологий (в
особенности
биотехнологии
и
информационной
технологиинвестиционный)
в таких
документах,
как
Директива ЕС
по биотехнологии
или в Акте о
защите
авторских
прав в
цифровом тысячелетии АЗАПЦТ в
США.[14]
·
Распространение
защиты на
новые
области, такие
как
программное
обеспечение
и бизнес-методы,
а также
принятие в
некоторых
странах
новых
специфических
режимов sui generis в
отношении
полупроводников
и баз данных.
·
Новый
упор на
защиту новых
знаний и
технологий,
разработанных
в
общественном
секторе.
·
Упор
на связи
защиты ИС с
традиционными
знаниями,[15]
фольклором и
генетическими
ресурсами.
·
Географическое
расширение
минимальных стандартов
защиты ИС
через
соглашение
ТРИПС (см.
Врезку O.1) и более
высоких
стандартов посредством
на
основе более
высоких
стандартов
через
двустороннихе
и
региональныхе
торговыхе
и
инвестиционныхе
соглашенийя.
·
Расширение
исключительных
прав, продление
длительности
защиты и
укрепление
правоприменительных
механизмов.
Врезка 0.1
Всемирная
торговая
организация
и Соглашение
ТРИПС
Соглашение
по торговым
аспектам
прав на интеллектуальную
собственность (ТРИПС)[16]
было
достигнуто
во время
Уругвайского
раунда
торговых
переговоров,
завершившегося
в 1994 году.
Заключительным
актом этих
переговоров
было
создание Всемирной
торговой
организации
(ВТО), были также
выработаны
правила
Соглашения
ВТО, включая
ТРИПС
которым
должны следовать
страны-члены
ВТО.
Была упрощена
система
решения
споров между
странами-членами
ВТО. В январе
этого года в
ВТО входило 144
стран, на которые
приходится
свыше 90%
мировой
торговли. Еще
30 стран
договариваются
о вступлении
в эту
организацию.
ТРИПС
требует от
стран-членов
ВТО обеспечить
минимальные
стандарты
защиты целого
ряда ПНИС, в
том числе
авторские
права,
патенты,
торговые
знаки,
промышленный
дизайн,
географические
названия,
полупроводниковую
топографию и
нераскрытую
информацию. Таким
образом,Этим
ТРИПС
включает в
себя
положения
многих
существующих
международных
соглашений
по ИС, таких как
Парижская и
Бернская
конвенции,
администрированием
которых
занимается Всемирная
организация
по охране
интеллектуальной
собственности
(ВОИС). В ТРИПС,
однако,
введены
новые
обязательства,
в частности,
в отношении
географических
названий, патентов,
коммерческихторговых
секретов и
мер
регулирования
правоприменения
прав по ИС.
Для
администрирования
деятельностиопераций
ТРИПС был
создан
особый орган
Совет ТРИПС,
в котором
представлены
все члены
ВТО. Этот
Совет
отвечает за
просмотр
разных
аспектов
ТРИПС в
соответствии
с самим
соглашением
и требованиями
проводящейся
раз в два
года
двухгодичной
министерской
конференции
ВТО.
К
числу
вопросов,
затронутых
ТРИПС,
которые вызывают
наиболее
широкую
полемикунаиболее
дискутируемых,
относятся следующиевопросы
о том:
·
осуществимы
ли задачи
статьи 7 о том,
что ПНИС
должны
помочь
передаче
технологии,
особенно в
отношении
развивающихся
стран-членов
ВТО
·
видимое
несоответствие
статьи 8,
позволяющей
странам
принимать
меры защиты здравоохранения
и
предотвращения
злоупотребленийя
правами на
ИС, при
условии их
соответствия
ТРИПС и
другим
требованиям
соглашения.
Сюда
относятся
требования
по патентной
защите
фармацевтических
изделий,
ограничения
на условия
принудительного
лицензирования
(статья 31) и
другие
положения,
касающиеся
исключений
из патентных
прав (статья 30).
·
требование
защиты
испытательных
данных от
«несправедливого
коммерческого
использования»
в статье 39.
·
оправдание
дополнительной
защиты географических
названий вин
и спиртных
напитков,
(статья 23), а
также вопрос
о том,
следует ли нужно
ли
распространять
такую
дополнительную
защиту на все
другие
географические
названия.
·
в какой
степени следует
разрешить
патентование
изобретений,
относящихся
к живым
формам,
например,
микроорганизмам
(статья 27.3(b)),
и требование
о защите ИС
для растений.
В этом
контексте был
затронут
вопрос
соответствия
ТРИПС таким
соглашениям,
как
Конвенция по
биологическому
разнообразию
(КБР).
·
во что
обойдется
выполнение
требований
ТРИПС многим
развивающимся
и наименее
развитым
странам-членам
ВТО, с точки
зрения
администрирования
прав на ИС и
их
эффективного
правоприменения.
Соглашение
ТРИПС
вступило в
силу 1 января 1995 года.
Членам ВТО,
считающимся
развитыми странами,
был
дандали
на его
внедрение
один год, а
развивающимся
странам и
странам с переходной
экономикой
срок до 1
января 2000 года. ПосколькуХотя
развивающимся
странам
необходимо
было распространить
патентную
защиту на
новые области,
такие как
фармацевтические
изделия, на
это им
предоставили
еще пять лет.
От Наименее
развитых
стран (НРС)[17]
ожидают
введения
ТРИПС в
действие к 2006
году, хотя
Министерская
декларация
по соглашению
ТРИПС и
здравоохранению
в Дохе отвеладала
им еще 10
лет на
фармацевтические
изделия.
Когда
возникают
споры по
истолкованию
ТРИПС и его
применению в
национальных
законодательствах,
страны-члены
могут представить
их на решение
принадлежащей
ВТО
Организации
по
разрешению
споров (ОРС).
До
сегодняшнего
дня было 24
таких случая,
связанных с
ТРИПС. Из них 23 были
представлены
развитыми
странами и один
- Бразилией, 16 относились
к спорам
между
развитыми
странами, 7 - к
спорам
развитых
стран с
развивающимися
и один был
к спору
Бразилии с
США. 10 изИз
24
случаев были
урегулированы10
урегулировали
по обоюдному
согласию, 7
были решены
комиссией,
созданной в
соответствии
с
процедурами
ТРИПС, еще и
7 ждут своего
решения.
Озабоченность
системой
интеллектуальной
собственности
и расширения
ПНИС касается
не только
развивающихся
стран. В
настоящее
время в США такие
влиятельные важные организации
как
Национальная
Академия
Наук, с одной
стороны, и
Министерство
юстиции и Федеральная
торговая
комиссия, с
другой, независимо
изучают этот
важный
вопрос.[18]
Озабоченность
связана с
быстрым ростом
вв
последние
годы в США числа
патентных
заявок (свышеболее
50% заэкономического
роста
последние
пять лет), и
ощущения
того, что
сегодня
выдаютют
намного
больше
«низкокачественных»
широкоохватных
патентов.
Часто
высказывают
опасения,о
чтовыдают
чересчур
много
патентов выдают нанезначительные
несущественные
разработки. В Например,
в
фармацевтической
промышленности,
например, это
может
привести к
продлению
монополии на чрезвычайно
важные
методы
лечениянеобходимое
лечение. Бывает,
что вВ
некоторых
юрисдикциях выдаютмогут
такжевыдавать
патенты на
биоматериалы
при
установлении
каких-то новых
их
функций или примененийиспользование,
на том
основании,
что они
извлечены и
получены из
природных
материалов.
То, насколько
такая
практика
влияет на
конкуренцию, мешаязатрудняя
конкурирующим
изобретателяментам
продавать
свои изделия ,по и
конкурентным
ценам и удорожая
рост цен
потребительские
цены язвляется
предметомвопросом
озабоченности
и
интенсивных
обсуждений. Достаточно
широкиеЗначительные
дебаты
ведутся и по
вопросам
влияния на научно-исследовательскую
деятельность,
особенно в
области
программного
обеспечения
и
биотехнологии,
где патенты,
полученные
на ранних
этапах
исследований,
могут стать
препятствием
на пути
дальнейшей
научно-исследовательской
деятельности
и коммерческого
использования.
В
своей
основополагающей
статье
биолог Гарретт
Хардин[19]
впервые использовал
выражение
«трагедия
общности»,
объясняя
для
объяснения
как
общие
ресурсы
зачастую
подвергаются
сверхиспользованию чрезмерного
использования
общих
ресурсов из-зав
отсутствиияе
правил
пользования
соответствующих
правил.
Широкое
распространение
ПНИС, особенно
в таких
областях, как
биомедицинские
исследования,
указывает на
возможность
«другой
трагедии
«противообщности»,
когда редкие
ресурсы
недоиспользуются
из-за того,
что большое
количество
владельцев могут
друг друга
заблокировать
и большое число
прав на
интеллектуальную
собственность
парадоксальным
образом
может
привести к
меньшему
числу
полезных для
здоровья
человека
продуктов».[20] КоВ
компанииях
теперьмного
выделяют
много средств
и времени
тратят на
определение
того, как
проводить
исследования,
не нарушая
патентных
прав других
компаний, а
такжеи много
средств и
времени
тратят на
защиту
собственных
патентных
прав. При этом
часто
задаются
вопросом о
том, являются
ли
существенные
судопроизводственные
затраты по
патентным
искам и
расходы на патентный
поиск и
анализ
неизбежной
платой за
вызываемое
патентной
системой
творческое
стимулирование,
или же
существуют
какие-то пути
сокращения
этих
затратих
снижения.
Все
это касается
не только
патентов. В
США
срок на
защиту
авторских
прав в прошлом
веке возрос с
28 лет (с
возобновлением
на
дополнительные
28 лет) по Акту о
защите
авторских
прав от 1909 года,
до 70 лет после
смерти
автора или 95
лет после публикации
(в
соответствии
с
европейской
практикой). Вопрос
в том,
действительно
ли можно
считать
такое продление
защиты
стимулом для
будущих
творческих
изысков,его
творчества
или же это скорее
делается для
повышения
ценности уже
созданных произведенийбольше
вопрос
повышения
стоимости
существующих
произведений. В 1998 году
Конгресс
США
принял Акт о
защите авторских
прав в
цифровом
тысячелетии
(АЗАПЦТ), который,
среди
прочего,
запрещает
обходить
технологические
средства
защиты (т.е.
кодирование).
В Европе
Директива по
базам данных
требует от
стран-членов
ЕС
обеспечивать
специфическую
защиту
любого
набора систематизированных
данных,
независимо
от того, оригинальные
это данные
или нет. В США пока
такого
подхода не
придерживаются. Все
чаще
возникают
опасения, что
Все
чаще
высказывают
опасение о
том, что под
влиянием
коммерческого
давления недостаточно
ограниченного
соображениями
общественных
интересов,
такую защитуа
расширяют пространяется
скореебольше
радидля
оправдания стоимости
вложенных
средств,инвестиций,
а не для с
целью
стимулирования
изобретательства
и творчества.
Мы
считаем, что
такие
обсуждаемые
в США и
других
развитых
странах
вопросы важны
также и для
развивающихся
стран, и полагаем,
что
отрицательные
последствия
«неправильно
означеннойверной»
политики
ИС могут быть
здесь еще
более
ощутимыми. В большинстве
развитых
стран
существуют хорошо
разработанные
системы
регулирования
конкуренции,
обеспечивающие
невозможность
чрезмерного
монопольного
злоупотребления
во вред общественным
интересам. В
США и
ЕС, например,
такие режимы
особо сильны
и хорошо налажены.
Однако
эЭтого,
однако,
никак нельзя
сказать о большинстве
развивающихся
стран, что
делает их
особо
уязвимыми в
отношении
неподходящих
для них
систем
интеллектуальной
собственности.
Мы считаем,
что
развивающимся
странам надо
учиться на
опыте
развитых стран
и
разработать
собственные
системы прав
на интеллектуальную
собственность,
в
соответствии
со своими
юридическими
системами и
экономическими
обстоятельствами.
Помимо
Кроме
внутреннего
местных
правил в
развитых
странах
системы прав
на
интеллектуальную
собственность в
самих
развивающихся
странах
следует также
учитывать
также
косвенное
воздействиеют на
них интеллектуальной
собственности
развитых
стран. и
В цифровой
век
ограничения
на доступ к
интернетным
данным и
материалам могут
пагубно
отражаются
на всеховлиять
на широкие
круги
населения.
Ученыме
развивающихся
стран,
например, может
быть
отказано в ут
не получить
доступеа
к защищенным
данным, или
же они
либо,
например,
могут не
иметь для этогоиметь
для этого
достаточныхо
средств.
Правила и
положения ИС
могут либо
отрицательно
влиять на
проводимые ую
в развитых
странах исследования
в области
болезней
или новых
сельскохозяйственных
культур,
важных для
развивающихся
стран,исследовательскую
работу в
области болезней,
важных для
развивающихся
стран, то
же касается и
новых
сельскохозяйственных
культур либо
поощрять такую
деятельность.
Режим ИС в
развитых
странах
может
явиться мощным
стимулом для
научно-исследовательской
деятельности,
особо
полезной для
населения
развитых
стран, тем
самым
отвлекая
интеллектуальные
ресурсы от
работы над проблемами
глобальной
важности. Принятая
в Практика
развитых
странах
практика может
позволять
патентование
знаний или генетических
ресурсов
развивающихся
стран без
предварительного
согласования
их участия в
выгодах отраздела
выгод от их
коммерческого их
использованияе.
В некоторых случаях
экспорт из
развивающихся
стран в развитые
страны бываетможет
быть
ограничен в
результате
такой защиты.
Для
развивающихся
стран не
менее важна и
продолжающаяся
тенденция
глобальной
гармонизация
прав на ИС. ЭтаТакая
тенденция не
нова ей болееейболее
100 лет. Тем не
менее,
соглашение
ТРИПС, которое,
с учетом
указанных в
нем
переходных
периодов,
вступило в
силу в 1995 году
(см. Врезку 0.1)
предусматривает
минимальные
обязательные
стандарты
защиты прав
на ИС во всех
странах-членах
ВТО. При этом ТРИПС
- лишь один из
элементов
международной
гармонизации. В ВОИС
продолжаютют
обсуждатьать
дальнейшуюую
гармонизациюю
патентной
системы, которая
сменит могущей
заменить
ТРИПС.
Более того,
двухсторонние
и региональные
соглашения
между
развитыми и
развивающимися
странами
часто
содержат
взаимные
обязательства
по внедрению
режимов ИС, выходящих
за
минимальные
рамки ТРИПС. Таким
образом,
развивающиеся
страны постоянно
испытывают
давление
с целью находятся
под
неустанным
давлением, с целью
заставить их
повысить
уровень
защиты ИС,
приблизив
его к
стандартам
развитых
стран.
Нас
также
поразила
неясная и
противоречивая
природа
большей
части
научно-исследовательской
деятельности
экономического
характераих
экономических
работ,
направленнойых
на выяснение
воздействия
ПНИС., в В указанных
исследованиях
таких
работах сохраняетсямного
неопределенностей
даже в
отношении
развитых
стран, а
ввиду
природы этой
темы такая
неопределенность
будет
продолжаться
в
них еще
значительное
время.
Воздействие
ПНИС зачастуюочень
часто
зависит от
конкретных
обстоятельств
и конкретной средыконтекста.
Многие
научно-академические
обозреватели
поэтому,
упорно
придерживаются
неопределенного
стиля при
анализе того,,
сохраняют
перевешивают
ли
социальные
выгоды ПНИС издержки
этой
системы. Типичным
примером
здесь
является
следующая цитата:
«Вряд
ли можноПочти
невозможно
придумать
социальный
институт
{система патентования},
который был
бы в столь
многих
планах настолько
несовершенным.
Он
сохраняется
лишь потому,
что ничего
лучшего,
по-видимому, придуматьсделать
невозможно».[21]
В
случае
развивающихся
стран в ряде
недавних
отчетов
международных
организаций
содержались
соображения
о наиболее
вероятном
воздействии
гармонизации
защиты права
на ИС на
развивающиеся
страны..[22]
Все этитакие
отчеты в той
или иной какой-то
мерестепени
отражают
озабоченность
тем, что процесс
может потребовать
существенных
затрат,
может быть
связано с
существенными
недостатками,
в то время как
преимущества его дляв
отношении
многих стран преимуществ
не так
уж очевидны.почти
не видно.
НАШЕ
ЗАДАНИЕ
Факт
создания
Комиссии
понимается
нами как свидетельство
того, что
британское
правительство
уделяет этим
вопросам то,
что
британское
правительство
большое
вниманиепридает
э. В свете
этого, наша
основная
задача
заключалась
в
том, чтобы
определить,нашим
основным
заданием
является
рассмотрение
того,
могут ли
современные влияют
ли правила
и учреждения
защиты ИС оказать
содействие
на
развитиюе
и
развивающихся
стран и
повлиять на снижение
в них уровня
бедности.
Мы
начали с того
факта, что на
каком-то
этапе
развития
развивающимся
странам
потребуется
какая-то форма
защиты ИС,
точно так же,
как это когда-то
произошло в
развитых
странах. Нет никакого
сомнения в
том, что это
может внести
важный вклад
в
научно-исследовательскую
деятельность и
инновации в
развитых
странах, особенно
в таких
промышленных
областях, как
фармацевтическое
и химическое
производство.
Система
защиты ИС
стимулирует
отдельных
лиц и компаниий
на
изобретения
и разработку
новых технологий,
которые
могут пойти
на пользу
обществу. Но процесс
стимулированияе
действуетработает
по-разному, в
зависимости
от того,
существуетесть
ли потенциал
реагирования
на такие
стимулы.
Предоставление
же
экслюзивных
прав приводит
к росту
стоимости
для
потребителей
и других
пользователей
охраняемых
технологий. В
некоторых случаях
защита
означает, что
потенциальные
потребители
и
пользователи,
не имеющие
возможности могущие
платить цен,
требуемых
владельцами
ИС, теряют
доступ к той
самой новой
технологии,
которую
система ИС
предназначена
сделать
доступной.
Перевешивают
ли выгоды этой
системы ее
издержки
зависит и от
того, как
применяются
эти
праваприменяют
права, и от
социально-экономических
обстоятельств.
Стандарты
защиты ИС,
подходящие
для развитых
стран,
могут принести
больше вреда,
чемвести к
большим
недостаткам
чем пользыам
развивающимся
странам,
которые для
удовлетворения
своих
жизненных
потребностей
должны во
многом полагаться
на знания или
наукоемные
изделия,
разработанные
в других
странах.
Природа
прав на
интеллектуальную
собственность
Есть
те, кто видят
права на ИС в
основном, как
экономические
и
коммерческие права,
другие
рассматривают
их в качестве
политических
или прав
человека.
Соглашение ТРИПС
рассматривает
их в первом
смысле, в то же
время
признавая
необходимость
баланса между
правами
изобретателей
и творческих
работниковсоздателей
и правами
пользователей
технологии
(Статья 7
ТРИПС).
Всеобщая
декларация
прав человека
использует
более
широкое
определение, признавая
«право на
защиту
моральных и
материальных
интересов в
рамках любой
научной,
литературной
или
художественной
продукции
того или
иного
автора», уравновешиваемое
«правом
принимать
участие в
научном
прогрессе и
его преимуществахвыгодах».[23]
Важно
совместить
общественный
интерес,
связанный с
доступом к
новым
знаниям и продуктам
новых знаний,
основанным
на них
изделиям с
общественным
интересом по
стимулированию
изобретательства
и творчества,
приводящимего
к новым
знаниям и продуктамизделиям,
от которых
может
зависеть
материальный
и культурный
прогресс.
Трудность
здесь заключается
в том, что
система ИС
стремится добиться
такого
сочетания
предоставлением
частного
права и
частных
материальных
выгод.
Таким
образом
(человеческое)
право на
защиту
«моральных и
материальных
интересов»
«авторов»
неразрывно
связано с правом
на частные
материальные
выгоды выгоды
в
результате
такой защиты.
А свои
частные выгоды
творческий
работниксоздатель
или
изобретатель
получает за
счет потребителя,
причем -
особенно там,
где
потребитель
относится к
бедным слоям
населения -
это может
привестиести
к конфликту с
фундаментальными
правами человека,
например,
правом на
жизнь.
Система ИС в
рамках ТРИПС
не разрешает
за исключением
довольно
узких
областей
дискриминационного
отношения к
товарам,
существенным
для жизни или
образования,
и прочим
товарам,
таким, как
фильмы или
продукты
быстрого приготовления.
Поэтому
мМы поэтому
считаем, что
права на ИС
лучше всего
рассматривать
в качестве
одного из
средств, с
помощью
которого
страна или
общество
могут способствовать
прогрессу
экономических
и социальных
прав. Не
должно быть,
например,
таких обстоятельств,
при которых
фундаментальныефундаментальные
права
человека
приносились
бы в жертву
требованиям
защиты ИС.
Права на ИС
предоставляются
государствами
на
ограниченный
период
времени (по
крайней мере,
на патенты и
авторские
права), в то
время как человеческие
права
являются
фундаментальными
всеобщими
правами.[24]
Права
на ИС, в
основном,
рассматриваются
как
экономические
и
коммерческие
права - так, например,
обстоит дело
с ТРИПС.
Такие права,
чаще всего,
предоставляются
компаниям, а
не отдельным
изобретателям.
Описание их в
качестве
«прав» не
должно
скрывать
реальных
проблем применения
в развивающихся
странах,
где связанные
с нимисоответствующие
дополнительные
затраты
должны
покрываться
за счет
экономии
средств на
предметы
первой
необходимости,
в которых
нуждаются
бедные слои
населения.
Вне
зависимостиНезависимо
от
используемой
терминологии,
мы предпочитаем
считать ПНИС
орудием
общественной
политики,
согласно
которой
лицам и
организациям
предоставляют
экономические
привилегии
с
единственной
целью
для
содействия
большему
общественному
благу. Привилегия
же означает,
что она
является
лишь средствомэто
лишь
средство, а
не самоцельюконечная
цель.
Таким
образом, анализируяпри
анализе
ценностьи
защиты прав
на ИС, ееих
можно
сравнивать с
налогообложением.
Вряд ли
кто-то
возьмется
утверждать,
что чем больше
налогов, тем
лучше, но
несмотря на
это, в
некоторых
кругах и бытует
мнение, что
укрепление
защитысуществует
тенденция
считать защиту
прав на ИС является
очевидным
благом. Рост
налогов
может быть
желательным,
если это дает
необходимые
обществу
услуги и
общественное
обслуживание,
перевешивающие
недостатки в
форме прямых
и косвенных
налогов. Но сСнижение
налогов
также
также может
быть
желательным,
например, когда
чрезмерное
налогообложение
задерживает
экономический
рост. Более
того,
экономисты и
политики много
времени всесторонне
обсуждаюттратят
на
обсуждение
вопросыов
оптимальной
структуры
системы
налогообложения.
Приводят ли,
например,
большие налоги
в пользу социального
обеспечения
к снижению
занятости?
Приводят ли
те или иные
налоговые
послабления
к желаемому
эффекту или
же они просто
субсидируют
тех, кто,
выигрывая от
этого, и
без того делает
то, что делал раньше?осуществляя
деятельность,
которая все
равно должна
осуществляться?
Приводит ли
налоговая
система к
желательному,
с социальной
точки зрения,
перераспределению
доходов?
Мы
считаем эти
вопросы во
многом аналогичными
вопросам,
касающихся
защиты
интеллектуальной
собственности.
В какой мере
это принесет
благо?
Какую
структуру
придать
системе
защиты ИС?
ее
структурировать?
Как зависит оптимальная
структура зависит
от разных
секторов и уровняя
развития? Более
того, даже
если правильно
выбрать
структуру и
уровень
защиты в
соответствии
с
необходимым,
для обществуа,
балансом
междуированием
стимулированиемя
творчества и
изобретательности
ис
неизбежными
недостатками
такой
системы, мы
все равно
вынуждены
заботиться о
справедливом
распределении
полученных выгод.все
равно
приходится
волноваться
в отношении
распределения
выгод.
Равноправное
распределение
затрат и выгод
Прямым
эффектом
Ззащитаы
интеллектуальной
собственности
непосредственно
приводит к является
финансовойая
выгодеа
для тех, кто обладает
знаниямиимеет
знания и способностью
к изобретательству,
и ки
росту затрат по
доступу
к
интеллектуальной
собственности
для тех, у
кого этих
знанийих
нет. Разумеется,
это
относится иЭто,
очевидно,
имеет
отношение
к
распределению
выгод между
развитыми и развивающимися
странами.
Даже если бы
мир, в целом, и
выиграл бы от
расширения
такой защиты
хотя вопрос
этот далеко
не решенный
распределительный
эффектот
этого и
влияние на
доходы могут
не соответствовать
нашим
представлениям
огласовываться
с нашим
чувством
равноправиия.
В
большинстве
развивающихся
стран со слабой
научно-технической
инфрастуктурой
преимущества
в виде
стимулированияе
местного
новаторства
будут
незначительными,
в то время
как затраты,
связанные с
защитой (в
основном,
иностранных)
технологий -
ощутимыми.
Таким
образом,
распределение
выгод и
издержек всей
системы
может оказатьсябыть
несправедливым.
В
большинстве
развивающихся
стран нет сильной
технологический
базы, выигравшей
бы и
соответственно,
выигрыша от
защиты ИС, но
в них имеютсяоднако,
есть
генетические
ресурсы и
традиционные
знания, обладающие
имеющие
ценностью как
для них
самих, так и
для
остального
мира. Эти
ресурсы Они
не
обязательно
относятся к
ресурсам ИС в том
смысле, в котором
их
понимаютпонимаемом
в развитых
странах,
смысле, но
они
определенно
являются
ресурсами, которые
могут
служить и
служатмогущими
служить и
служащими
основой для
создания
защищенной
интеллектуальной
собственности.
Здесь
возникает
ряд сложныхЭто
приводит к
ряду
вопросов о
том, как
такие
ресурсы
должны взаимодействовать
с
и
оцениваться «модернизированнымисовременными»
системами ИС и
оцениваться
ими, в какой
степени
такие
ресурсы и
знания нуждаются
в
собственной
защите (не
только в смысле
ИС), и как
справедливо
распределять
коммерческие
выгоды.
Интернет
также
предоставляет
невероятные
возможности
доступа к необходимой,
для
развивающихся
стран,
научно-исследовательской
информации
там, где
обычный
доступ к
печатным
материалам
может быть
ограничен
из-за
недостатка
средств.
Существует,
однако,
опасность
того, что,
из-за
кодирования
информации
(«управления
цифровыми
правами»)
направленного
на
предотвращение
широко
распространенного
копирования, такие
материалы
могут стать
менее
доступным,
чем при
использовании
обычных
печатных
материалов.
Такие
тенденции ставят
под угрозуопасность
концепцию
«справедливого
пользования»[25] (и
аналогичные
доктрины),
примененяемые
сегодня в
отношении
печатных
материалов, а
иногда, в
крайних
случаях,
могут даже выразиться
вобеспечить
эквиваленте
вечной
защиты
авторских
прав, причем в
виде однако
технологическихми,,
а не правовыхми
методовами.
Какую
следует
нужно
разрабатывать
политику в
области прав
на интеллектуальную
собственность?
При
большой неопределенности
и
противоречияхКогда
в отношении
глобального
воздействия
ПНИС
существует
так много
неопределенностей,
мы считаем,
что прежде, чем
приниматьеред
принятием
решенияй
о дальнейшем
территориальном
и
количественном
расширении
прав на ИС, те,
кто определяют
политику в этом
вопросеот,
кто разрабатывает
соответствующую
политику,
обязаны
учесть все имеющиеся
в наличии данныефакторы,
даже при всем
их
несовершенстве и
неполнотеесли
они неполны и
несовершенны.
Очень
часто здесь
преобладают
доминируют
интересы
«производителей»,
интересы же
потребителей
либо не
слышны, либо
к ним не прислушиваются.
Таким
образом,
соответствующая
политика зачастуючасто
определяется
скорее
интересами
коммерческих
пользователей
системы, чема
не объективным
принципом
служения непредвзятой
концепцией
высшегму о общественномуго
благуа. При В
обсуждениях
вопросов
ПНИС, с
участиемгде
участвуют и
развитыхе
и развивающихеся
страны,
также наблюдаетсясуществует
аналогичный
дисбаланс. Министерства
торговли
Министерства
торговли
развитых
стран, в
основном,
находятся
под влиянием
производителей,
которым
выгодна более
сильная
защита прав
на ИС на тех экспортных
рынках,
куда они
экспортируют
свою
продукцию,
в то время,
как
странам-потребителям,
то
есть, в
основном,
развивающимся
странам,
сложнее выявить
свои
собственные
интересыопределять
и
противопоставитьлятьсвои
собственные
интересы
их интересам
развитых
стран.
ТМы, таким
образом, мы признаем,
что правила и
практика
прав на интеллектуальную
собственность
и то, как они
развиваются,
- результат
политической
экономики.
Развивающиеся
страны и
особенно потребители
из бедныех
слоиев
населения,
потребляющие
товары, которые
могут быть защищенныеы
правами на
ИС, ведут
переговоры с
позиций относительной
слабости. В отношениях
В
отношениях
раразвитыхзвитых
с и
развивающихся
стран
наблюдаетсясуществует
фундаментальная
ассиметрия, возникшая
в результате разнойв
корне
основанная
на относительной
экономической
силые
каждой
стороны.
В качестве
одного из
примеров
здесь можно привести
переговоры
по ТРИПС во
время Уругвайского
раунда.
Развивающиеся
страны приняли
ТРИПС не
потому, что в
то время
принятие
положений о
защите прав
на интеллектуальную
собственность
было для
приоритетной
задачейих
первоочередной
заботой, а
частично
потому, что
считали, что
весь предложенный
пакет мер,
включавший
снижение
протекционистских
мер в
развитых
странах,
будет выгодным
для них
выгодным.
Многие из них
теперь пришли
к заключению,считают,
что принятые
развитыми
странами
обязательства
по
либерализации
сельского
хозяйства и
текстильной
промышленности
и снижению
тарифов не
были
выполнены, в
то время, как
им самим
приходится
теперь справлятьсяпришлось
мириться
с бременем
соглашения
ТРИПС.
Прошлогоднее
соглашение о
новом раунде
«развития»
ВТО в Дохе
признает, что
в эту сделку
между развитыми
и
развивающимися
странами
необходимо
внести
ясность и
значимость.
Для
развивающихся
стран
сложность
здесь заключается
в том, что они -
«второпроходцы»,
в сформированном
«первопроходцами»
мире, который
благодаря этому,причем
мир этот
сильно
отличается
от того, в
котором начинали
развиватьсялись
«первопроходцы».
Уже
сСтало
штампом
говорить, что
мы живем в
век глобализации
и интеграции
мировой
экономики. В
международном
сообществе
свято верят в
то, что
интеграция,
при на
соответствующих
условиях,
необходимое
условие
развития. С
нашей точки
зрения, вопрос
в том, каковы
же
соответствующие
условия
такой
интеграции в
области ПНИС.
Точноак
так же как в
свое время
развитые
страны
создавали
свои системы
ИС в
соответствии
со своим экономическим,
социальным и
техническим уровнем,
развивающиеся
страны
должны, в принципе,
быть в
состоянии заниматься
тем же иделать
это в наше
время.
Таким
образом, мы
приходим к
заключению,
что принимать
участие в
разработке
международной
политики в
области прав
на ИС следуетнужно
обращать
гораздо
больше
внимания обращать
на нуждынеобходимость
развивающихся
стран. В
соответствии
с недавно
принятыми
решениями
международного
сообщества в
Дохе и Монтеррее,
задачи
развитияых
стран
необходимо
совмещать с
выработкой
правил и
практики ИС. В марте
2002 года в Монтеррее
правительства
приветствовали
«решение ВТО сделать
главный упор
в своей
рабочей
программе на
потребностях
и интересах
развивающихся
стран». Они
также
признали, что
у
развивающихся
стран есть
причины для
озабоченности,
в том числе:
«ввиду
отсутствия
признания в
правах на интеллектуальную
собственность
прав по защите
традиционных
знаний и
фольклора; при
передачс
знаний и
технологии; в
отношении
внедрения и
истолкования
Соглашения
по торговым
аспектам
прав на
интеллектуальную
собственность
в интересах
общественного
здравоохранения
[26]
Мы
считаем, что
это
правильная,
хоть и
частичная
программа. При
обдумыванииАнализируя
воздействияе
существующейих
ныне
системы на
развивающиеся
страны
анализ
должен быть глубже,
а действия больше
широкими. на
развивающиеся
страны, необходимо
сделать
гораздо
больше. Мы пришли
к выводу,считаем,
что если не
проявить
достаточной
осторожности,
то системы
прав на
интеллектуальную
собственность
могут
привести к
искажениям,
идущим во
вред
интересам
развивающихся
стран. ЧересчурОчень
«высокие»
стандарты
защиты ИС,
возможно,
служат
могут
служить
общественным
интересам
развитых
стран с их
высокоразвитой
научно-технической
инфраструктурой
(хотя и здесь,
как
указывалось выше,
можно
отметить
неоднозначность
по целому
ряду
аспектов), это однако
это
не значит,
что те же
стандарты
подходят и для
развивающихся
стран. На
самом деле мы
считаем, что
развитые
страны
должны
уделять
больше
внимания
сочетанию
собственных
коммерческих
интересов с
необходимостью
снижать
уровень
бедности во
всех
развивающихся
странах.
Более того,
мы считаем,
что развитые
страны
должны
уделять
больше
внимания сочетанию
собственных
коммерческих
интересов со
своей же
заинтересованностью в
снижении
уровня
бедности в
развивающихся
странах.
Для
достижения этой
цели, не
следует, в
рамках
возможного,
С
этой целью нельзя,
по
возможности, лишать
развивающиеся
страны той гибкости
в вопросах
разработкеа
собственных
систем ИС,
которойую
пользовались
развитые
страны имели
на более
ранних
этапах
своего
развития, и не
следует
навязывать
им более
высоких стандартов
ИС без
серьезной и
объективной
оценки влияния
этих
аспектов на
развитие развивающихся
стран не
следует
навязывать
им более
высоких стандартов
ИС.
Необходимо
обеспечить
такое
положение, при
котором развитие
глобальныеой
системыы
ИС
развивались
бы с учетом учитывает ппотребностейи и
нужд
развивающихся
стран, внося
вклад в дело
развития
развивающихся
стран путемза
счет
стимулирования
необходимых
им для них
инновацийновшеств
и передачи
технологии, в
то же время предоставляя
этим странам
технологические
продукты по максимально
низкимнаинизшим
возможным
конкурентным
ценам.
Необходимо сделать
все для того,
чтобы
системы ИС
способствовали,
а не затрудняли,
внедрение
быстрого
научно-технического
прогресса,
идя на
пользу
развивающимся
странам.
Мы
надеемся, что
этот отчет
поможет
определить
программу
разработки
глобальной
системы ПНИС
и создания соответствующих
учреждений
этой системы,
которые
будут более
эффективно
работать дляполезных
для бедныхх
слоевев
населения и
развивающиххся
стран.
В
отношении
развивающихся
стран мы
выделили ряд
основных
вопросов,
рассматриваемых
в последующих
разделах:
·
Чему
можно
научиться на
примере социальных
и
эмпирических
фактов о
воздействии
ИС в
развивающихся
странах?
Могут ли
сегодня
развивающиеся
страны
извлечь урок
из
исторического
опыта
развитых
стран? Как
можно
способствовать
передаче
технологии
развивающимся
странам?
(Раздел 1)
·
Каков
вклад
системы ИС вна
разработку
медицинских
препаратов,
необходимых
бедным слоям
населения?
Как это воздействует
на их доступ
к
медицинским
препаратам и
их наличие?
Что это
означает для
правил и
практики ИС?
(Раздел 2)
·
Может
ли защита
прав на ИС в
отношении
растений и
генетических
ресурсов
помочь развивающимся
странам и
бедным слоям
населения?
Какие системы
ИС для защиты
культур
растений, с
сохранением,
при этом, прав
фермеров,
следуетнужно
рассматривать
в развивающихся
странах? системы
ИС для защиты
культур
растений, охраняя,
при этом права
фермеров? (Раздел
3)
·
Каким
образом
система ИС
могла бы
внести свой
вклад ов
вклад
системы ИС в
укрепление
принциповы
доступа и
раздела
выгод,
отраженныхе
в Конвенции
по биологическому
разнообразию
(КБР)? Может ли система
ИС это
защитить и
поощрить
традиционные
знания, биологическое
разнообразие
и культурное
самовыражение?
Может ли
расширениея
защиты
географических
названий[27] (ГН)
помочь
развивающимся
странам?
(Раздел 4)
·
Как
воздействует
защита
авторских
прав на доступ
развивающихся
стран к
необходимым имдля
них
знаниям,
технологии и
информации?
Повлияет ли
ИС и
технологическая
защита на
доступ к
Интернету?
Как можно
использовать
защиту
авторских
прав для
поддержки
творческих
отраслей в
развивающихся
странах?
(Раздел 5)
·
Каким
образом нужно
развивающимся
странам
странам разрабатыватьотать
собственное
законодательство
и практику
патентования?
Могут ли они
сделать это
так, чтобы
избежать
ряда проблем,
с которыми сталкивались
развитые
страны?
Ккакова
наилучшая
позиция в
отношении
патентной
гармонизации
для
развивающихся
стран?
(Раздел 6)
·
Какие
учреждения
нужны
развивающимся
странам учреждения
для
эффективного
администрирования,
правоприменения
и
регулирования
ИС, и как их создать?
Какие нужны
дополнительные
программы и
учреждения, в
частности, в
отношении
конкуренции?
(Раздел 7)
·
Оптимально
ли работают
над ПНИС
национальные
и
международные
учреждения в
интересах
развивающихся
стран?
(Раздел 8)
Раздел
1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
И РАЗВИТИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Интеллектуальная
собственность
форма
знаний, в
отношении
которых
общество
решило
признать
определенные
права собственности.
Такие права Они
несколько
напоминают
права на
владение земельной
физической
собственностью.
Однако з Знания
,
однако, намного
шире
интеллектуальной
собственности.
Они связаны с
людьми,
учреждениями
и новыми
технологическими
методами,
которые
издавна
рассматривались
как важный двигатель
экономического
роста.[28]
Альфред
Маршалл,
«отец» современной
экономики, в
19-омв
веке считал
именно так.[29] придерживался
именно такой
точки зрения. С
учетом
современного
научно-технического
прогресса,
особенно в
области
биотехнологии
и
информационной
и
коммуникационной
технологии
(ИКТ),
важность
знаний в
качестве
основного источника
конкурентного
преимущества
для стран и корпораций
возросла еще еще
больше.
Торговля
наукоемкими
технологиями
и
обслуживанием
в областях,
где чаще всего
встречается
защита прав
на ИС,
относится к
числу
наиболее
интенсивно
развивающихся
сфер международной
коммерции.[30]
Имеется
достаточно
доказательств
того, что в
развитых
странах
интеллектуальная
собственность
сталабыла
важным
стимулом в
деле
поощрения
новых
изобретений изобретательности
в целом ряде
промышленных
отраслей,
хотя не совсем
ясна
ее важностьважным
в разных
отраслях не
вполне ясно.
Например, факты
говорят о
том, что начиная
с 1980-х годов
факты
говорят о
том, что
главными
отраслями,
признавшими
важность
патентной
системы для
новаторства, сталиявлялись
фармацевтическая,
химическая и
нефтехимическая
отрасли.[31]
Сегодня к
этому можно придобавить
биотехнологию
и,
частично, информационную
технологию.
Защита авторских
прав защита
также
оказалась
важной в
музыке,
киноиндустрии
и
издательском
деле.
В
развивающихся
странах, как
до того в
развитых
странах,
развитие
собственной
технологической
базыой
базы
оказалось
главным
определителем
экономического
ростаазвития
и снижения
уровня
бедности. Такая
базаая
база
определяеет,
в какой
степени
странаы
способнаы
воспользоваться
иностранной
технологией и
внедрить ее у
себя. иностранную
технологию. Результаты
многих исследованийработ
говорят о
том, что
наиболее
важным
фактором,
определяющим
успех
передачи
технологии,
является
опережающее
развитие такой
собственной
технологической
базы.[32]
Развивающиеся
страны,
однако,
сильно
разнятся
между собой в
отношении
качества и
потенциала
научно-технической
инфраструктуры.
Широко
распространенным
показателем
технологического
потенциала
являются
объемы
патентования
в США, а и в
международных
масштабах -
через
Договор о
патентном
сотрудничестве
(ДПС).[33] В 2001
году, в США менее 1%
патентов
были выданы
заявителям
из
развивающихся
стран, причем
из них 60%
пришлось среди
них лишь на
семь
наиболее
технически
развитыхе
страны.[34] Что
же касаетсяВ
ДПС, то
в
1999-2001годах ДПС
на
развивающиеся
страны
приходилоись
менее 2%
заявок в
1999-2001годах,
причем 95% из
них исходилоприходились
всего лишь изна
пятиь
стран Китаяй,
Индиию,
Южнойую
Африкиу,
Бразилиию
и Мексикиу.[35] Хотя
в абсолютных
цифрахВ
этих странах
число
патентных
заявокхоть
в абсолютных
цифрах оно
и
незначительно,
оно
растет
быстреей,
чем по
странам ДПС в
целом. Число
заявок по ДПС
возросло в 1999-2001
годы почти на
23%, но доля этих
стран в общем
числе
возросла с 1% в
1999 году до 2.6% в 2001
году.
Как видимели,
затраты на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность
приходятся, преимущественно,
приходятся
на
развитые
страны и несколькомногие
технически наиболее
развитых
развивающихся
стран. Лишь
оОчень
немногие
развивающиеся
страны смогли
добиться
развить
у себя
развития
технологическихй
мощностейпотенциал,
а
эточто
означает, что
им трудносложно
разрабатывать
собственную
технологию и внедрять у
себя
технологию
развитых
стран.
Решающим
вопросом
здесь
является
вопрос о том,
способствует
ли
расширение
режима ИС в
развивающихся
странах
облегчению доступа
к таким
технологиям,
и как защита
прав на
интеллектуальную
собственность
может помочь
развивающимся
странам
добиться
социально-экономического
развития и снижения
уровня
бедности. В
настоящем
разделе мы
рассмотрим
следующие
аспекты этой
проблемы:
·
Доводы,
выдвигаемые
в пользу
защиты ИС
·
Использование
ИС в развитых
и развивающихся
странах на
прежних
исторических
этапах
·
Существующие
доказательства
воздействия
ИС на
развивающиеся
страны
·
Возможная
роль ИС в
способствовании
передаче
технологии
развивающимся
странам.
Врезка 1.1
Что такое
права на
интеллектуальную
собственность?
Права
на
интеллектуальную
собственность
(ИС) -
предоставленные
обществом
права отдельным
лицам и
организациям,
в основном, в
отношении
творческой деятельностиработы:
изобретений,
литературных
и
художественных
призведений
и символов,
названий,
образов и
коммерчески
используемого
дизайна. Они
дают
создателю
право
предотвратить
неутвержденное
использование
кем-то
другим такой
собственности
другими
лицами в
течение
ограниченного
срока.
Выделяют следующие
категории ИС:
Промышленную
собственность
(функциональные
коммерческие
изобретения
и инновации),
и Художественную
и
литературную
собственность
(произведения
культуры).
Современное
техническое
развитие в
определенной
степени
размывает
эту разницу,
так что
возникают
специфические
конкретные
системы.
Промышленная
собственность
Патенты:
Патент
предоставленное
изобретателю
на
определенный
срок изобретателю
исключительное
право по
предотвращению
- без
лицензии или
разрешения -
изготовления,
продажи,
распространения,
импорта и
использования
его
изобретения
(в ТРИПС говорится
о
минимальном сроке
сроке в 20
лет после
даты заявки).
Взамен
обмен на это
на это
общество
требует,
чтобы
заявитель раскрыл
свое
изобретение
так, чтобы им
могли впоследствии
воспользоваться
другие люди. Таким
образом
достигают
увеличения
общего
запасаЭтим
увеличивают
общие запасы
знаний
доступных
для
дальнейшей
научно-исследовательской
деятельностиработы.
В дополнение
к раскрытию
изобретения
имеются еще
три требования
(различающиеся
в разных
странах своей
спецификойдетали
которыхразные),
определяющие
патентоспособность
изобретений
новизна
(новые
характеристики,
отличные от
«преждеизвестных»)[36],
неочевидность
(изобретательный
шаг, который
не является
очевидным
для специалистов
вв той
или иной
области) и утилитарность
(в США) либо
промышленная
применимость
(в
Великобритании).
Утилитарные
модели
аналогичны
патентам, но
в некоторых
странах они
дают права
на более
краткие
сроки .и они
относятся к
инкрементальному
изобретательству
и инновациям.
Промышленный
дизайн:
Промышленный
дизайн
защищает
эстетические
аспекты
(форма,
текстура,
образец, расцветка)
объекта, а не
его
технические
характеристики.
ТРИПС
требует, чобы
оригинальный дизайн
был защишен
от
неутвержденного
использования
в течение по
меньшей мере
10 лет.
Торговые
знаки:
Торговые
знаки дают
исключительные
права на
использование
отличительных
знаков, таких
как символы,
цвета, буквы,
формы и
названия, отличающие
указывающие
на
производителя
изделия, и
защищают связанную
с ними
репутацию.
Чтобы
иметь право
на защиту,
знак должен
быть отличительным
и
характерным
для
владельца, указывая
на его товары
и услуги.
Основная цель
торговых
знаков обеспечить,связана
с тем, чтобы
потребителей
и заказчиков
не
обманывали и
не вводили в
заблуждение.
Период
защиты может быть
разным, но
торговые
знаки можно
возобновлять
неограниченное
число раз.
Кроме того,
многие
страны
защищают
владельцев
от несправедливой
конкуренции
вводом в заблуждение
относительно
источника
товара или
изделия,
независимо
от
регистрации
торгового знака.
Географические
названия:
Географическиех
названия (ГН)
указывают на
географическое
происхождение
продукта и
связанные с
этим соответствующие
качества,
репутацию и
прочие
характеристики.
Они, обычно,
состоят из названия
места
происхождения.
Например, продукты
питания
иногда имеют
качества, связанные
с местом
производства
и местными факторами.
Защищенные ГГеографические
названияя
позволяют
предотвратить их
использованиеих
неутвержденными
лицами, либо
введение в
заблуждение, выдающимия
другие
продукты из
других регионов
за
продукты из
того или
иного места.
Торговые
секреты:
Торговые
секреты
состоят из
коммерчески ценной
информации о
производственных
методах,
бизнес-планах,
клиентуре и
т.д. Пока
секретны, они
защищены
законом, чем
предотвращается
их приобретение
коммерчески
несправедливыми
способами и
неутвержденное
раскрытие.
Художественная
и
литературная
собственность
Авторские
права: Защита
авторских
прав дает
исключительные
права
создателям
литературных,
научных и
художественных
работ.
Защита
авторских
прав предотвращает
лишь
копирование,
а не независимые
варианты. Она
начинается
неформально
с создания произведения
и длится (обычно)
на
протяжении
жизни авторасоздателя
и еще 50 лет (70
лет в США и ЕС).
Она
предотвращает
неутвержденные
репродукции,
публичные
представления,
запись,
передачу,
перевод и
адаптацию,
позволяя получатьение
авторскоего
вознаграждениея
за утвержденное
использование.
Компьютерные
программы
защищены авторскими
правами, а
источник
программного
обеспечения
и код
определяются
в качестве
литературного
выражения.
Специфические
системы Sui Generis
Интегральные
компьютерные
схемыконтура:
Специфическая
защита sui generis
для случаев
дизайна
интегральных
компьютерных
схемконтуров.
Изобретательные
шаги
минимальны,
единственным
требованием
является
оригинальность,
минимальный
период
защиты по
ТРИПС - 10 лет.
Права
растениеводов:
Права
растениеводов
(ПРВ)
предоставлены
им на новые,
отличительные,
однородные и
стабильные
культуры
растений.
Они, обычно,
дают защиту
по меньшей
мере в
течение 15 лет
(со дня
предоставления).
В
большинстве
стран
существуют
исключения
для фермеров,
с тем, чтобы
те могли охранить
и высевать
семена, и на
использование
защищенных
материалов
от
дальнейшего
разведения.
Защита баз
данных: В ЕС было
принято
законодательство
по специфической
защите sui generis
баз данных,
предотвращающейя
неутвержденное
использование
таких данных,
даже если они
не являются
оригинальнымие.
Предоставляются
исключительные
права на
извлечение и
использование
всего
илии
значительнойую
частиь
содержания
защищенных
баз данных.
ДОВОДЫ,
ВЫДВИГАЕМЫЕ
В ПОЛЬЗУ
ЗАЩИТЫ ИС
Введение
Интеллектуальная
собственность
создает
законные
средства
присвоения
знаний. Характерной
чертой
знаний
является то,
что использование
их каким-то
одним лицом
(например,
при чтении
этого отчета)
происходит
не за счет
уменьшения не
уменьшает
количества
знаний в
распоряжении
других лиц.
Более того,
дополнительная
стоимость предоставления
знаний
другим лицам
(например,
одолжив книгу
или
скопировав
электронный
файл) зачастую
очень низка
или равна
нулю. С
общественной
точки зрения,
чем больше
людей
пользуется
знаниями, тем
лучше для
всех, потому
что каждый
пользователь
получает
что-то для
себя, при
низких или
нулевых
затратах, аи
от этого, в
той или иной
мере,
выигрывает
все общество.
Поэтому э Экономисты
поэтому
говорят,
что знания,
по своему
характеру, аналогичны
внеконкурентному
общественному
благу.[37]
Другим
аспектом
знаний или
продукции на
основе
знаний,
является
трудность
часто
неотъемлемая
черта знаний
связанная с
предотвращением
пользования
ими или
копирования
их другими
лицами.
Многие
изделия,
содержащие
новые знания,
можно легко
скопировать.
Если постараться,
можно,
наверное,
скопировать
большинство таких
продуктов,
причем по ценестоимости,
составляющей
лишь часть
(не
обязательно
малую)
стоимости,
связанной с
изобретениемй
и маркетингома
такого
продуктасоответствующих
изделий.
Последнюю
характеристику
экономисты считают
способствующейописывают
в виде вклада
внефункционирование
отказу рыночного
механизма. Если
кКаждый
такойое
изделие
продукт
требует
вклада
значительных
усилий,
изобретательности
и
исследований,
но
его легко
скопировать,
однако
легкость копирования
то,приводитк
с
точки зрения
общества,
недостаточный
финансовый
стимулнедостаточности
финанового
стимулирования
в обществе
не позволяет
направить ,
желающем
направить
ресурсы на
изобретениея.
Патенты
Патенты
один
из способов
решения этой
проблемы отказанефункционирования
рыночного
механизма.
Патенты, с их
временной
рыночной
монополией,
позволяют
производителям
вернуть
расходы на
инвестиции в научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
и получить
прибыль в
обмен на
разглашение
знаний,
лежащих в
основе того или
иного
изобретения.
Другие лица
могут приступить
кначать
коммерческомуе
использованиюе
изобретения
лишь с
разрешения
патентообладателя.
Затраты на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
и возврат на
инвестиции
получают за
счет взимания
с потребителя
цен,
основанных
на
возможности
исключить
конкуренцию.
Указанная
защита, таким
образом,
является выработанным
обществом
механизмом,
предполагающим,
что без него
число
изобретений
и
новаторских
предложений
будет недостаточным.
Предпосылка
здесь
заключается
в том, что,
несмотря на
временно
более
высокие
монопольные
цены, в
дальней
перспективе
это выгодно
для
потребителя,
так как
краткосрочный
убытокщерб
более чем
компенсируется
ценностью
новых
изобретений
в результате
научно-исследовательской
и разработочной
деятельности
. Экономисты
говорят, что
система
патентования
улучшает
динамическую
эффективность
(поощрение технического
прогресса) за
счет
статической
эффективности
(более
высоких
монопольных
цен).
Эти
доводы в
пользу
патентной
защиты достаточно
однозначные,
но они
зависят от
ряда
упрощающих
предположений,
которые на
практике
могут не оправдыватьсясоблюдаться.
Невозможнользя,
например,
точно
определить
оптимальную
степень
патентной
защиты. Если
защита слишком
слабая,
то
разработка
технологии
задержится
из-за
недостаточного
стимулирования
научно-исследовательской
и разработочной
деятельности.
При чересчур сильной
защите
потребитель
проигрывает даже
в дальней
перспективе,
патентообладатели
же получают
прибыли,
намного
превышающие
затраты на научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность.
Более того,
защита
технологии
может
затормозить
дальнейшиеее
инновации
из-за, скажем,
слишком
длительных
патентных
сроков или
чересчур
широкоохватной
й области
патента.з
Продолжительность
предоставляемогоенного
монопольного
срока
является
одним из определяющих
параметров
силы
патентной
защиты.
Вторым
параметром
являются
рамки запатентованной
области.
Права по
широкоохватному
патенту
могут
намного
выходить за рамки
первоначального
изобретения.
Например, в
патенте на
какой-то ген
может быть
приведено
одно из его
использований,
но, при определенном
подходе,
держатель
такого патента
может иметь
право и на
использование
генетической
информации,
превышающейе
то, что
описано в
заявке, причем
сюдаэто
может входить
нечто такоеключать
что-то, что
может быть
позднееже
открыто
кем-то
другим.
Широкоохватные
патенты,,
обычно,, препятствуютмешают
дальнейшим
изобретениям
и работе
других исследователей
в области
таких
патентов. В
противоположность
этому,
узкоохватные
заявки
стимулируоют
дальнейшую
работу
«вокруг
патента», накладываяимея
меньше
ограничений
на
научно-исследовательскую
дечятельность
других
исследователей.
Узкоохватные
патенты Они
также могут
давать более
сильные
права, которые
легче
отстаивать в
ходео
время
судебных исковспоров.[38] Политика
лицензирования,
которой
может добиватьсяпридерживаться
держатель
патента,
также
существенное
влияет на
распространение
новых
технологий и
степень
воздействия
предоставленных
прав на
дальнейшую
научно-исследовательскую
дечятельность.
Оптимальная
степень
защиты (когда
признаетсяобщепринято,
что
общественные
выгоды
перевешивают
издержки),
также сильново
многом
зависит от конкретного
продукта и изделий
и отрасли.
Она связана с
изменениями
спроса, рыночными
структурами,
затратами на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность
и с самой природой
изобретательского
процесса
изобретения.
На практике
невозможно
точно «по
мерке
скроить»
режимы ПНИС,
так что предоставляемая
степень
защиты
является
необходимым
компромиссом.
Неверныйверный
компромисс в
виде
чересчур
сильной или слабой
защиты может
дорого
обойтись
обществу,
особенно в
дальней
перспективе.
Одним
из исходных
допущенийосновных
предположений
здесь
является то,
чтопредположение
о том, что в
частном
секторе
существует
некий
скрытый
изобретательский
потенциал,
который
раскрепощается
при
предоставлении
защиты в
рамках
системы ИС.
Такое
предположение
может быть
верным для
стран со
значительным
научно-исследовательским
потенциалом.,
Но
в
большинстве же
развивающихся
стран местные
системы инновацийи
и
изобретательствао
(во
всяком
случае, как
их понимают в
развитых
странах),
слабы. Даже
там, где
такой
потенциал
выше, он, чаще
всего,
встречается
в
общественном,
а не частном
секторе.[39]
Таким
образом, в
этом
контексте,
трудно
судить о
динамическихе
преимуществах
и недостаткахи
системы
защиты ИС
связаны с
неопределенностью.
Патентная
система
может дать
стимул, но местный
потенциал
может оказаться
быть
чересзчур
низким, чтобы
этим
стимуломим
воспользоваться.
Даже при
развитых технологиях
фирмы в
развивающихся
странах
редко могут
позволить
себе
стоимость приобретения
прав и - что здесь
важнее всего
- судебных
издержек при
решении
возникающих
споров.
Экономисты
сегодня очень
четко
представляют
себемного
внимания
обращают и
то, что они
называют стоимостью
операций.
Создание
инфраструктуры
режима ПНИС и
правоприменительных
механизмов
требует дорого
обходится от
правительствам
и частныхм
заинтересованныхм
сторонам
дорогостоящих
затрат. В
развивающихся
странах, с ихо
скудными
слабыми
человеческими
и
финансовыми
ресурсами и при
слабонеразвитымих
правовымих
системамих,
операционные
затраты длявозможная
стоимость эффективного
администрирования
системы оперирования
системы
достаточно
высокиа.
Затраты
включают
стоимость
анализа патентных
заявок (как
на стадии
заявок, так и,
при необходимости,
в судах) и
судебные
затраты при нарушении
патентных
прав.
Значительны
и
затраты за
счет связаны
с присущей
системе неопределенности
в затратах
на судебные
процессыстоимостной
неопределенностью
судебных
споров. Все подобного
родаТакие
издержки следуеттакже
надо
учитывать
при анализе вопроса
при решении
вопросов о
преимуществах
и
недостатках,
связанных с
системой
ИС.
Таким
образом, при При
анализе той
или иной патентной
системы
необходимо таким
образом, взвесить
все ее
преимущества
и недостатки,
причем их
соотношение,
скорее всего,
будет сильно
разниться в
разныхво
многом
зависеть
конкретных
обстоятельствах.
УченыеСреди
ученых, главным
образомпреимущенственно
экономистыов,
в
целом склонны
к критической
точке зрения
на ПНИС. , в
целом,
смотрят
критически. Предоставление
уУказанныхе
права
непременно
обязательно
связано с ограничением
конкуренции
в ущербконкурентными
ограничениями
во вред
потребителю
и свободной
торговле. Поэтому
всегда
возникает вопрос,
всегда
заключается
в том,
перевешивают
ли при этом
преимущества
- в виде
стимулирования
научно-исследовательской
деятельности
и
изобретений - недостатки
системы.
Нижеприведенные
во Врезке 1.2
цитаты
говорят о
широко
распространенном
двояком
отношении к
системе ИС в
развитых
странах и ееее
воздействии
на
развивающиеся
страны. Такое
отношение
еще больше
укрепилось
после охвата
системами ИС
новых
технологий.
Врезка 1.2 Выводы
о ценности
системы ИС
Эдит
Пенроуз в
книге
«Экономика
международной
патентной
системы»,
опубликованной
в 1951
году, писала:
«Любая
страна
обязательно
проигрывает,
когда
предоставляет
монопольные
привилегии
на
внутреннем
рынке,
которые неи
улучшают и
неи
удешевляют
имеющиехся
товарыов,
не развивают
производственного
потенциала и
не даютее
производителям
по меньшей
мере
эквивалентных
привилегий
на других
рынках.
Никакие
разговоры об
«экономическом
единстве мира»
не скроют
того факта,
что страны с
небольшим объемом
экспортаом
промышленных
товаров и
малым или
нулевым числом
продаваемых
изобретений
ничего не
выигрывают
от предоставления
патентов на
запатентованные
за границей
изобретения,
кроме, возможно, избежанияя
каких-то
неприятных
иностранных
санкций. К
этим
категориям
относятся
страны, где
население, в
основном,
занимается
сельским
хозяйством, и
страны,
пытающиеся
развивать
свою
промышленность,
но
экспортирующие,
в основном,
сырье
какие
бы ни были
преимущества
для таких
стран
они не
включают
преимущества,
касающиеся
собственной
экономической
выгоды от
предоставления
патентов на
изобретения.[40]
После
изучения в 1958
году
патентной
системыв
США, Фриц
Мачлап
пришел к
следующему
заключению:
«Если
кто-то не
знает ...
хороша ли
система или плоха,
то самое
безопасное
«политическое
решение» -стараться
продолжать
все
по-старому, сохраняялибо
при
прежнююой
системуе,
если та давно
существует,
либо обходясь
без нее,
если ее нет.
Если бы у нас
не было патентной
системы, то
было бы
безответственноым,
на основании
существующих
знаний об ее
экономических
последствиях,
рекомендовать
введение такой
системы. Но
поскольку патентная
система у
нас патентная
система существует
давно, было
бы
безответственным,
на основании
существующих
знаний, рекомендовать
ее отмену.
Последнее
утверждение
относится к
такой стране,
как США, а не к
малой,
преимущественно
неиндустриальнойпромышленной
стране, где иныедругие
аргументы
могли бы
привести к
иным заключениям».[41]
Еще
один видныйедущий
экономист,
Лестер Тароу
в 1997 году писал:
«ГВ глобальной
экономике необходима
глобальная
система прав
на
интеллектуальную
собственность
является
необходимостью.
Такая
система
должна
отражать
нужды как развивающихся,
так и
развитых
стран. Данная
проблема
аналогична
проблеме о
том, какие знания
должны быть
общедоступными
в развитых
странах. Но в
странах
третьего
мира необходимость
приобретатьолучить
дешевые
фармацевтические
продуктыизделия
отличается
от
необходимости
в дешевых компакт-дисках.
Любая
система,в
которая
уравниваетой
такие виды
необходимости
- что
и равны,
как это
происходит в нынешней современной
системе - не
является системой
хорошей илиили
жизнеспособной».[42]
Видный
ученый- юрист
Ларри Лессиг говорил
осказал
об США в 1999
году так:
«Нет
сомнения в
том, что нам с
патентной
системой нам лучше,
чем без нее.
Многие виды
научно-исследовательской
деятельности
и изобретений
не
существовали
бы без
правительственной
защиты. Но
только
потому, что
использование
защиты- -
хорошо, еще не
значит, что
чем ее
больше, тем
лучше
Среди
ученых
растет
скептицизм в
оттношении
того,
помогают ли
такие
навязанные
государством
монополии быстроразвивающемуся
рынку, такому
как Интернет
Вопрос,
который
теперь
задают экономисты,
заключается
в том,
полезно ли
расширять
патентную
защиту. Ясно,
что
некоторые от
этого очень
разбогатеют,
но это не
равносильно
улучшению
рынка
Вместо
неограниченной
защиты наша
традиция
учит ценить
равновесие и
опасаться
чересчур
сильного режима
интеллектуальной
собственности.
Однако с
балансом в
отношении ИС
на сегодня, повидимому,
покончено.
Вместо него
началась
лихорадка
не только в
области
патентов, но
и ИС в целом
[43]
А
выдающийся
экономист
Джеффри Сакс
в 2002 году
сказал:
«
в
отношении
беднейших
стран мира
имеется возможность
еще раз
продумать
режим прав на
интеллектуальную
собственность.
Во время
Уругвайского
раунда
переговоров
международная
фармацевтическая
промышленность
оказывала
большое
давление в
пользу
всемирной
системы
патентной защиты,
не продумав ее
последствийя
ее
для
беднейших
стран. Нет
никакого
сомнения в
том, что
новые
положения
ПНИС
затруднят потребителям
из беднейших
стран мира
доступ к
важнейшим
технологиям,
как мы это
наглядно
видели на
примере
жизненно
необходимых
лекарств.
Страны,
ведущие
переговоры
нового раунда
в Дохе, поступили
правильно
поступили,когда
обязавшисьлись пересмотреть
вопрос о ПНИС
в свете
приоритетов
здравоохранения.
Вполне может
случиться,
что
укрепление
ПНИС замедлит
распространение
технологии в
беднейших
странах мира,
которые
всегда
практиковали
копирование
и обратное
проектирование.
Это
постепенно
замедлит
распространение
технологии в
беднейших
странах, что может
привести к
нежелательным
результатамтрудностям.
Такие
вопросы
нужно
постоянно
отслеживать,
изучать и
анализировать»[44].
Авторские
права
Доводы,
выдвигаемые
в пользу
защиты авторских
прав,
аналогичны
доводам,
касающимся патентов,
хотя по
традиции,исторически
творческим
правам
художников на
справедливое
вознаграждение
за свой труд больше
внимания уделялось
больше
внимания творческим
правам
художников на
оплату своей
работы, чем
вопросу о
стимулахам
стимулирования.
Защита
авторских
прав
направлена
на защиту
формы, в
которой
выражаются
идеи, а не
самих идей. Запрещая
копирование,
она была и
остается основой
прибыльности
изданий
литературных
и
художественных
работ. В
отличие от патентов,
защита
авторских
прав не
нуждается в
регистрации
или других
формальностях (хотя это
не всегда
было так).
Как и в
случае с
патентами,
здесь также
существует
компромисс
между
стимулом для
создателей
литературных
и
художественных
работ и
связанными с
этим
ограничениями
на свободное
обращение
охраняемых
работ. В отличие
от патентов,
однако,
защита
авторских
прав в
принципе защищает
выражение
идей, а не
сами идеи,
которые
могут быть
использованы
другими. Она
лишь
предотвращает
копирование
конкретного
выражения
идей, а не
независимых
вариантов.
Основным затруднениемвопросом для
развивающихся
стран остаетсяявляется
стоимость
доступа к
физической
или цифровой
форме
охраняемых
работ, а
также занимаемая
ими позиция в
отношении вопрос строгости
защиты
авторских
прав.
Как и в
случае
патентов, в
законодательстве,,
обычно,,
предусматривают
существуют
исключения в
виде ущемления,меньшения,
в
определенных
случаях, прав
владельцев в интересах
общества, получившие
в таких
странах, некоторых
странах,
например, в как США
и
Великобритания,
названиекоторые
называют
положений
«справедливого
пользования»,
или
«исключений изк
репродукционныхм
правам» в
европейской
традиции.[45]
Такие
вопросы
стоимости
доступа и истолкования
«справедливого
пользования»
критически
важны для
развивающихся
страны,
особенно в
связи с
распространением
защиты
авторских
прав на электронные
материалы и
программное
обеспечение.
Защита
авторских
прав длитсязащищает
работы
намного
дольше
патентов, не
защищая их,
однако, от
независимых
вариантов
выражения содержащихся
в них ответствующих
идей. По
ТРИПС, защита
авторских
прав длитсядает
право
минимум на
50 лет после
смерти
автора, но в
большинстве развитых
и ряде
развивающихся
стран этот срок
увеличен до 70
и более лет.
Хотя основной
причиной
продления
авторских
прав стало
давление со
стороны
соответствующих
отраслей
(особенно
киноиндустрии
США ), нет
явных экономических
оснований, по
которым бы такая
защита должна
была бы бытьбыла
бы намного
более
продолжительной,
чем патентные
сроки., -
нет. В самом
деле, скорость,
с которой
менялась
техника,
фактически быстрота
технических
изменений привела ,фактически,
к более
кратким
срокам
службы
продукции некоторых
отраслей
(например,
новых изданий
программного
обеспечения),
что указывает
на
отсутствие
необходимости
в длительных
сроках
защиты.
Последовательные
удлинения
периода
защиты
авторских прав
вызвали
озабоченность
в
определенных
кругах. В
этом году
Верховный
Суд США
заслушает
дело о том,
что - по
утверждению
заявителя -
Акт
продления
срока аязащитыа
авторских
прав от 1998 года
противоречит
Конституции
США , в
которой
говорится,
что защита обязана
быть предоставлена
на
«ограниченные
времена». Кроме
того,
утверждается,
что
продление
защиты на уже
существующие
работы неа
имеет
стимулирующего
эффекта и
нарушает конституционное
требование о
том, чтобы монопольные
права
предоставлялись
лишь в обмен
на какие-то
преимущества
для обществаобщественную
пользу.[46]
Как и в
случае с
патентами,
для
развивающихся
стран
ключевым
вопросом
является
вопрос о том,
перевешивают
ли
преимущества
от стимулирования,
вызываемогованного
защитой
авторских
прав, недостатки,
связанные с
ограничениями
на использование
соответствующих
материалов.
Хотя и бывают и
исключения -
примером
здесь может
служить разработка
программного
обеспечения
в Индии и
киноиндустрия
этой страны -
большинство
развивающихся
стран, в
основном, - чистые
импортеры
материалов,
защищенных авторскими
правами, а
также чистые
импортеры
технологии.
Поскольку
защита
авторских
прав не
нуждается в
регистрации
и других
формальностях,
после
принятия
соответствующих
законов ее влияние
ее
становится
более ощутимым,
чем в случае
патентов.
Программное
обеспечение,
учебники и
научные
журналы
ключевые
области, в
которых
защита
авторских прав
является
определяющим
фактором цен
и доступности,
оказывая
существенное
воздействие
на сферу образованияе
и другие
важные для
развивающейся
страны
процессы
развития. Так,
например,
разумнаяо
необходимая
подборка необходимых
научных
журналов
может быть
далеко не по
средствам
университетским
библиотекам
большинства
развивающихся,
аа,
нередко, и
развитых
стран.
Вопрос
взаимодействия
Интернета и
защиты
авторских
прав становится
особо
насущным для
развивающихся
стран. В
случае
печатных
публикаций, в
законах о
защите
авторских
прав имеются
положения о
«справедливом
пользовании».
Кроме того,
сама природа
таких
материалов
допускает многократное
их
использование
в библиотеках,
или -
неформальным
образом -
когда книгу
берут друг у
друга или
читают прямо
в магазине
(например,
перед тем,
как решить, стоит
ли ее
покупать). При
интернетном
же доступе
технология
позволяет
кодировать
материалы,
исключая
этим
потенциальных
пользователей,
даже от
заглядывания
в них, если
они не заплатили не
заплативших
соответствующей
платы. ,
даже от
заглядывания
в них. Хотя
вся
«философия»
Интернета до
сих пор
зижделась на заключалась
раньше в своб
свобоодном
доступе,
сайты с
ценными
материалами
все больше склонныдвигаются
в сторону
взиматьния
плату с
пользователей
платы
либо
ограничивать
ений
на доступ
каким-то либо
иным
способом.
Более того,
АЗАПЦТ в США и
европейская
Директива по
базам данных
содержат положения,
намного
выходящие за
рамки требований
ТРИПС, и
многие
пользователи
считают, что
здесь
равновесие сильно
нарушеночрезмерно
сдвигается
в пользунаправлении
инвесторов и
создателей
наборов и баз
данных.
Таким
образом, как
и в случае с
патентами, здесь
необходим
правильный баланс.
Слишком
сильная
защита авторских
прав или иная
форма защиты
ИС, например,
с помощью
технологии,
может
ограничить поток
идей, от
которых
зависит
дальнейший прогресс
общества и
технологии. В
развивающихся
странах
чересчур строгое
законодательство
по защите
авторских
прав может
затруднить
доступ к
работам, необходимым
для развития
таких стран,
например, к
учебно-образовательным
и научно-техническим
материалам.
ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКАИНФОРМАЦИЯ
Опыт
развитых
стран в 19-ом
веке и
быстроразвивающихся
стран
восточной Азии
в прошлом
веке
предлагает несколько
исторических
уроков.Можно
выучить
несколько
исторических
уроков,
особенно на
опыте
развитых
стран в 19-ом
веке и
быстроразвивающихся
стран
восточной
Азии в
прошлом веке.
Прежде
всего, страны
традиционно
использовали
режимы Исторически,
во-первых, в
этих странах
режим ИС использовался
в целях для
продвижения, в
их понимании,
своих , как
они это
понимали, экономических
интересов. Страны
меняли свои
режимы на
разных
этапах экономического
развития, по
мере
изменения своихих
представлений
(и
экономического
статуса).
Например, с 1790 по 1836
годы, будучи
чистым
импортером
технологии,
США ограничивалиа
выдачу
патентов тем,
кто не был
гражданином
или жителем
страны. Даже
в 1836 году ,
патентные
сборы с
иностранцев
были в десять
раз выше
сборов с
граждан США
(и еще на две
трети выше в
случает
британцев!).
Лишь в 1861 году
(почти
полностью) прекратили
дискриминацию
против против
иностранцев.
В своем
годовом
отчете 1858 года комиссионер
США по
патентам
писал:
«Важным,
хоть и
неприглядным
фактом
является то,
что из 10359
изобретений,
сделанных в
течение последнего
года за
границей,
всего лишь 42
были запатентованы
в США.
Исчерпывающим
объяснением
этого
факта
можно
назвать
чрезмерные
сборы,
взимаемые с
иностранцев,
и тягость оскорбительной
дискриминации
против них
вполне можно
заключить,
что
правительство
этой страны
считает
заморские
изобретения
чем-то в
корне
опасным и
даже
неприятным, полагая,
что
налогообложение
их является политически
мудрым и
справедливым
шагом, как
если бы это
был импорт
какой-то
опасной
иностранной
отравы. Есть,
однако, более
возвышенная точка
зрения, более
гармонично
сочетающаяся
с
прогрессивным
духом нашего
времени согласно
ей, плоды
изобретательного
гения человека,
в каком бы
климате они
ни созревали,
рассматриваются
как
общемировое
наследие, получая
радушный
прием когда
их сердечно
приветствуют, в
качествек
общегое
благао
для всего
человечества,
улучшению
жизни которого
они
посвящены»[47].
До 1891
года защита авторских
прав в США
распространялась
лишь на
граждан США,
причем действовалив
силе были
различные
ограничения
на защиту
авторских
прав
иностранцев
(например,
печатная продукция
должна была
быть набрана
в США), что
задержало
присоединение
США к Бернской
конвенции по
защите
авторских
прав до 1989 года, спустя
целых 100 лет
после
присоединения
Великобритании. По той
же причине
некоторые
читатели ,
возможно,
помнят
надпись на
обложкахе
книг : «По
связанным с
авторскими
праваминых
соображениям соображений
данное
издание не
подлежит
продаже в
США».
До
принятия
Парижской
конвенции (по
защите
промышленной
собственности)
в 1883 году и соответствующей
Бернской
конвенции 1886
года (по
литературным
и
художественным
работам)
страны могли
без
ограничения
«кроить» свой режим
в соответствииующий
с
собственными
собственными
ообстоятельствами. Даже
правила этих конвенций
имели
значительную
гибкость. Парижская
конвенция
позволяла
странам не распространять
защиту на те
или иные технологические
области, а
также
определять длительность
сроков
патентной
защиты. Во избежание
злоупотреблений,
в некоторых
случаях
разрешалось
отменять
патенты и
вводить
принудительное
лицензирование[48].
Во-вторых,
многиеие
страны
иногда не
распространяли
патентную
защиту на те
или иные
промышленные
отрасли.
Часто
законодательство
ограничивало
патенты на
изделия,
защищая лишь
производственные
процессы. К
таким
отраслям
Такими
отраслями,
обычно
относились,
были
пищевая,
фармацевтическая
и химическая,
причем
решения
обосновывались
теми соображениями,
что не
следует
предоставлять
монополию на предметы
первой
необходимости,
и что лучше
поощрить
свободный
доступ к
иностранной
технологии,
чем пытаться
стимулировать
изобретения
на местах.
Такой подход в
19-ом и - в ряде
случаев - в 20
веке был взят
на вооружение
многими ныне
развитыми теперь
странами, а
также
восточноазиатскими
странами
(такими, как
Тайвань и
Корея) вплоть
до недавнего
времени.
Сегодня,
однако, ТРИПС
запрещает
дискриминацию
в области
патентной
защиты в
отношении
разных
технологических
областей.
В-третьих,
интеллектуальная
собственность,
и, в
частности,
патенты,
часто становилисьбыли
предметом
спора. С 1850 по 1875
годы в
научных и политических
кругах
Европы
велись
ожесточенные
дискуссии о
том, не
противоречит
ли патентная
система
принципам свободной
торговли и не
сводится ли
она просто к
лучшему
практическому
средству стимулирования
изобретений. Джон
Стюарт Милл
придерживался
последней
точки зрения:
«
временная
эксклюзивная
привилегия
предпочтительнее
[в качестве
средства
стимулирования
изобретений],
потому что
здесь ничто
не оставленовлено
на чье-то
усмотрение;
потому что
предполагаемое
вознаграждение
зависит от
полезности
изобретения,
и чем оно
полезней, тем
выше
вознаграждение;
и потому что
оно оплачивается
теми, кто
получает
услуги - потребителями.[49]
Сегодня,
по существу,
пользуются
теми же доводами,
считая, что
это
сравнительно
недорогой (по
крайней мере
для
правительств,
когда они
выступают в
качестве
покупателей
товаров)
способ
поощрения
изобретений,
причем
вознаграждение
пропорционально
дальнейшему
использованию.[50]
Сопротивление
патентной
защите
покоилось на
нескольких
аргументах,
которые все лучше
всего были
все подытожилены
журналом
«Экономист» в 1851
году:
«Предоставленные
патентным
законодательством
привилегии
изобретателям
введение запретов
для других
людейагаемые
на других
запреты,
причем
соответствующая
история
изобретений
полна
случаев,
когда
незначительные
запатентованные
улучшения
надолго остановили
схожие,
гораздо
более
значительные
улучшения
привилегии
задушили больше
изобретений,
чем
поощрили
Каждый
патент
запрет, на
определенное
число лет, на
улучшение в
направлениях,
отличных от
направлений
патента; и
как бы это ние
было
выигрышноым
для
получателя
привилегий,
общество от
этого
выиграть не
может
Это,
фактически,
запрет для другихм
изобретателейям
пользоваться
своими
умственными
способностями;
а поскольку
их больше
одного, то это
равносильно
тормозу на
пути общего
прогресса
[51]
Здесь,
опять-таки,
возникает
тема,
фигурирующая
в
современных
дискуссиях.
Если система
защищает ряд
изобретений,
может ли она
избежать
препятствий
на путий
тех на пути
тех, кто
желает
добиться
улучшений?
Предвосхищая
дебаты,
которые
позднее велись
в отношении
ТРИПС,
аргумент 19
века также
относился к
спорам о
свободной
торговле, согласно
которым
патентная
система,
предостаовляя
монополию, в
какой-то
степени
считалась
противоречащей
принципам
свободной торговли.
Более того,
здесь дело
касалось и собственных
интересов. В
Швейцарии в
1880-х годах
промышленники
не желали обзаводитьсяиметь
патентнымого
законодательствома
- они хотели
продолжать
пользоваться
изобретениями
иностранных
конкурентов.
Сопротивление
существовало
несмотря на
то, что сами
швейцарцы с
энтузиазмом
подавали
патентные
заявки в
других
странах. А поскольку
в Швейцарии
были низкие
тарифы, то в
стране
опасались,
что конкуренты
получат в
Швейцарии
патенты и под
их защитой
избавятся от
швейцарских
конкурентов.
В
конце-концов
Швейцария
приняла
патентное
законодательство
правда, с
разными оговорками
и
исключениями
-
не потому,
что
швейцарцы сочли,читали,
что им будет
выгодно будет
разрешить
иностранцам получатьиметь
у них
патенты, а
из-за
сильного
давления,
особенно со
стороны
Германии.
Швейцария не
желала становиться
объектом быть
предметом
санкций со
стороны своего
соседаэтой
страны.[52]
Были
приняты меры
защиты, включавшиеко
торые
включали
положения об
обязательном
производстве
[53] и
принудительном
лицензировании,
что позволяило
правительству,
при желании,
заставлятьить
производителей
тем или иным
способом выпускать
изделия в Швейцарии. Кроме
того, из
патентной защиты
исключили
химическую
промышленность
и окраску
тканей. В
других
европейских
странах
сторонники
патентной
системы также,
в целом,
одержали
победу как
раз в тотм
момент, когда
движение за
свободную
торговлю
ослабло ввиду
экономического
кризсиса
в Европе. ТолькоВ
одной лишь в
Голландии
движению
против
патентной
защиты
удалось
полностью
победить
своих противников,
поэтому там с
1869 по 1912 годы
патентов не
выдавали.[54]
В-четвертых,
лучшим
недавним
примером развития
являются
страны
восточной
Азии,
использовавшие
слабую форму
защиты ИС,
скроенную в соответствии
с их
конкретными
обстоятельствами
на данном
этапе
развития. На
крититческом
этапе
быстрого экономического
роста нав
Тайване и в
Южной Корее
в 1960-1980 годы во
время
экономических
преобразований
обе страны
подчеркивали
значение
обратного проектирования[55] в
качестве
важнейшегоого
элемента
развития
собственного
технологического
и
новаторского
потенциала. Корея
приняла у
себя
патентное
законодательство
в 1961 году, исключив
из него из
которого
была
исключена
пищевуюая,
химическуюая
и
фармацевтическуюий
промышленность.
Срок
патентования
составлял
был
всего лишь 12
лет.
Лишь к
середине 1980-х
годов, в
частности,особенно
в результате
давления со
стороны США,
действовавших
по пункту 301 своегоее
Акта о
торговле от 1974
года,
патентные
законы были
пересмотрены,
хотя они все
еще не достигли
стандартов,
предусмотренных
соглашением
ТРИПС.
Аналогичный
процесс происходил
и на Тайване.
В Индии
ослаблению защиты
ИС в
фармацевтике
в
соответствии
с ее
Патентным
актом от 1970
года[56]
приписывают
важную роль в
последующем
быстром
росте
фармацевтической
промышленности,
ставашей
выпускать и
экспортировать
недорогие
схожие
препараты[57]
(генерики)
и
промежуточные
лекарства в
оптовых количествах.[58]
Общий
исторический
урок
заключается
в том, что
разные
страны
смогли
адаптировать
режим ПНИС, с
целью
содействия
техническому
обучению и
собственным
промышленным
задачам.
Поскольку
политика
одной страны
действует на
интересы
других стран,
дебаты по ИС
всегда имели
также и имели
международный
аспектую
компоненту.
Парижская и
Бернская
конвенции
признают этот
факт и ее
желательность
обоюдных
действий,
разрешая, при
этом,
соблюдать
гибкость при
разработке
режима ИС. В ходе
нынешнего настоящий
периода действия
ТРИПС
большая
часть
гибкости
была утрачена.
Сегодня,
развивая
свои режимы,
страны не
могутВ
своем
развитии
больше идти
по пути
Швейцарии,
Кореи или Тайваня.
Процесс
технического
обучения и
обратного
проектирования
с последующим
созданием
собственного
новаторского
потенциала
необходимо
теперь
осуществлять
по-иному.
ФАКТЫ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ
О
ВОЗДЕЙСТВИИ
ИС
Контекст
Проанализировать
имеющиеся
факты воздействия
режима ПНИС
на
развивающиеся
и развитые
страны
довольно
непросто. В
соответствии
с
вышесказанным,
мы хотели
бы
сосредоточитьжелали
бы
сосредоточиться
внимание
на ПНИС не в
качестве
самоцели, а в
контексте возможного
воздействиярассмотрения
того, как они
воздействуют
на развитие
стран и
снижение
уровня бедности.
Мы считаем,
что условием устойчивого
развития
любой страны
является
развитие
собственного
научно-технического
потенциала.
Это
необходимо
для развития
собственных
технических
инноваций и
эффективного
внедрения иностранных
разработанных
за границей
технологий.
Развитие
такого
потенциала, разумеетсяочевидно,
зависит от многихбольшого
числа
элементов и
нуждается в
эффективной системе
образования,
особенно
высшего,образовательной
системе,
особенно в
отношении
высшего
образования,
а также
опорной сети
учреждений и
юридических
структур. поддержки.
Развитие
потенциалаОно
нуждается и в
наличии
финансовых
средств общественных
и частных
для
дальнейшего
технического
развития.
Имеется
целый ряд
дополнительных
факторов, влияющих
которые
влияют на
то, что
нередко
называют
«национальной
системой
инноваций».
С этой
точки зрения,
вопрос
состоит в
том, может ли
ПНИС в
принципе
способствовать
поощрению
эффективной
национальной
системы
изобретательства
и новаторства,
а также - с
учетом
разнообразия
местных
условий и
характеристик
научно-технического
потенциала то
быть
эффективным на
практике в
условиях той
или иной
страны. Более
того,
поскольку мы
заинтересованы
не только в
изучении
динамического
эффекта ПНИС
на поощрение
изобретательства
и новаторства,
но и в
рассмотрении
того, во что
обходится обществу
защита ИС,
особенно
бедным слоям населения,
то
необходимо
принять во
внимание и этуи
затратную
сторону при
оценке
фактов и доказательств
по той или
иной системе
ИС.
Большая
часть фактов
и
доказательств,
касающихся о
ПНИС, носит косвенныйе
или вторичныйе
характер.
Мы не можем
напрямую
измерить
потенциал страны
в отношении
изобретательства
и новаторства
(но можем,
например, как
общепринято,
использовать
затраты на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
или затраты,
связанные с
изобретательством
и
инновациями
в качестве
косвенных
характеристик).
Мы также не в
состоянии
измерить
силу
патентной
защиты в той
или иной
стране (хотя
и были
составлены
показатели
на основе
разнообразных
косвенных характеристик).
Использование
эконометрии,в
котораяой
стремитсястараются
выделить
независимый
эффект ПНИС
на экономические
показатели,
часто
оспаривают, особенно
в отношении
того,
демонстрирует
ли она
причинно-следственные
или корреляционные
связи. Некоторые
Есть,
например, те,
кто утверждаюет,
например, что
отсутствие
защиты ИС
поощряет
передачу
технологии и
технических
знаний (полученных
путем копированияем
и подражанияем).
Иные говорят, о
том, что
защита ИС
является
механизмом,
поощряющим
передачу
технологии
из-за границы
путем прямых
инвестиций и
лицензирования,
что
косвенным
образом
приводит кпричем
косвенным
эффектом
этого
является
эффективномуе
овладению
технологиейтехническое
образование.
Тем,
кто
занимается
разработкой
политики в
этом
направлении,
бывает
сложно оОпределить,
где истина.,
является
сложной
задачей для
тех, кто
вырабатывает
политику.
Перераспределительное
воздействие
Развивающиеся
страны, в
целом, -
чистые импортеры
технологии,
большую
часть
которойинство
ее им
поставляют ется
развитыеми
страныами.
В
развитых
странах оОрганизации
развитых
стран
владеют
подавляющим
большинством
мировых
патентных
прав. Для
оценки
глобального
воздействия
внедрения
соглашения ТРИПС
(т.е.
глобальных
минимальных
стандартов
защиты ИС) бБыли
созданы
эконометрические
модели. для
оценки
глобального
воздействия
внедрения
соглашения
СТАПНИС (т.е.
глобальных
минимальных
стандартов
защиты ИС). По
последним
оценкам
Всемирного
банка, в
основном, от
ТРИПС получают
экономическую
выгоду,выиграют
главным
образом, развитые
страны, ввиду
повышения
ценности их
патентов, причем
для США,
например, экономическая
выгода
составитвыигрыш
выразится в
сумме 19
млрд
долларов США.[59]
Проигрывают
здесь
развивающиеся
и некоторые
развитые
страны. Согласно
исследованию
По
мнению
Всемирного
банка, наибольший
ущерб
понесет больше
всего проиграет
Корея ($15 млрд
долларов
США). Не
следует
преувеличивать
точное
значение
этих цифр, которые
зависятзависящих
от ряда
спорных
предпосылокложений,
однако
совершенно
ясно, что от
глобального
внедрения
патентных
прав
определенно
выигрывают
патентообладатели,
в основном,
в развитых
странах, за
счет
пользователей
охраняемой
технологии и
изделий в
развивающихся
странах. С 1991 по
2001 годы чистая
прибыль от
лицензионных
платежей и
сборов (связанных,
в основном, с
операциями
ИС) в США возросла
с 14 до свыше 22
млрд
долларов США.[60] По
данным ВЦифры
в
распоряжении
всемирного
банка за 1999
год, говорятдефицит
баланса
развивающихся
стран, связанный
о
связанном
с
лицензионными
сборами и
выплатой
роялти,
составилдефиците
баланса
развивающихся
стран в размере
7.5 млрд
долларов США.[61]
Рост экономики
и
изобретательство
Нет
ничего
удивительного
в том, что
расширение
ПНИС пойдет
на пользу
развитым
странам - этим
и объясняет ся давление
со стороны
промышленных
отраслей
развитых
стран в
пользу
принятия
ТРИПС.
Вышеприведенные
расчеты,
однако,
упоминают лишь
недостатки
ПНИС для
развивающихся
стран. Для
того, чтобыЧтобы
ПНИС принеслипошли
развивающимся
странам экономическую
выгоду, на
пользу
нужно, чтобы
они поощряли
изобретательство
и
технические
инновации,
приводящие к
экономическому
росту.
Если
брать
отдельные
страны, то в
нихВ
развивающихся
странах,
судя по
всему,
проводится
мало
проведено мало
экономических
научных
исследований
в
области
экономики
на
государственном
уровнепо
развивающимся
странам, в
которых бы устанавливалась
бы прямая
связь напрямую
иследовались
связи режима
ПНИС с
местными
инновациями
и развитием. ДляОбщим
для
Германии и
восточноазиатских
стран (включая
Китай) общим
подходом
является
введение
утилитарных моделей,
при которых пороги
патентоспособности
и
стандарты
изобретательства
ниже,с
более
низкими
стандартами
изобретательности,
аи
вместо
патентного
поиска и
анализа применяется
системае
регистрациивместо
патентного
поиска и
анализа, са
также при
более краткимих
срокамих
патентной
защиты.[62] Впервые
введенные в
Германии в 1891
году, они
предоставляют
соискателю
трехлетний
срок защиты
(с продлением
еще на три
года), причем
к 1930-ым годам
было выдано в
два раза
больше утилитарных,
чем обычных
патентов.[63]
Анализ
японской
патентной
системы в 1960-1993
годах
говорит о том,
чтобольшей
важности
утилитарныех моделией
важнее
патентов в
стимулировании
роста
производительности.[64]
Имеются
также
определенные
факты, связывающие
изобретательство
и инновации,
в частности,
в Бразилии и
на
Филлипинах, с
наличием таких
утилитарных
моделей.[65] В
Японии факты
говорят о
том, что система
«слабой»
защиты на
основе
утилитарных
моделей и
промышленного
дизайна способствовала
постепенному
росту инноваций
на малых
предприятиях
и внедрению и
распространению
технологий.
Как и на
Тайване и в
Корее, это
было связано
с отсутствием
патентной
защиты на
химическую и
фармацевтическую
продукцию. В последнем
случае
Япония ввела
защиту лишь в
1976 году.[66]
Существует
больше
фактов и
доказательств
влиянияо
воздействии
патентной
защиты в
развитых
странах.
Согласно имеющимся
данным,
крупные
фирмы
придают
патентной
защите большое
значение в
ряде
отраслей
(например, фармацевтической),
но во многих
других отраслях
их не считают
важными
стимулами
для инноваций.[67] Более
того, патенты
почти не
используются
малыми и
средними
предприятиями
большинства
отраслей
развитых стран
ни
в качестве
стимула к изобретательствуа
и новаторству,а
ни
в качествелибо
источника
полезной
технической
информации.
Существенным
исключением
здесь является
биофармацевтическая
отрасль, где
компании
часто причисляютрассматривают
свои
патентные
портфели к
числу самых ценныхв
качестве
наиважнейших
деловых
активов.[68]
Недавно
проведенноеее
крупное
британское
исследование
пришло к
выводу, что в
Великобритании
«формальные режимы
ИС применимы
лишь к
небольшой
части
деловой активности,
в частности,
на крупных
производствах».
Другие
неформальные
методы защиты
и получения
технической
информации, в
целом, более
эффективны
на малых и
средних предприятиях.[69]
С
нашей точки
зрения, критически
важно то,решающим
вопросом
является
насколько
ПНИС
стимулируют
экономический
рост. Имеющиеся
в нашем
распоряжении
данные не дают
оснований
предполагать,
что
существует прямая
связьПросмотренные
нами факты
показывают,
что здесь нетсильной
непосредственной
связи с
экономическим
ростом
развивающихся
стран.[70] В
одномй
недавнемй
исследованииработе
было
установлено,
что чем
более
открыта (для
торговли)
экономика
страны, тем
более
вероятно, что
патентные права
повлияют на
ее
экономический
рост. В соответствии
с
приведенными
там оценками,
в открытой
экономической
системе усиление
патентных
прав более
сильные
патентные
права приводият
к увеличению
экономического
роста на 0.66% в год.[71]. Однако Ведутся,
однако,
дебаты о причинно-следственнаяой
связьи
этого не
однозначна,
потому что
как открытая
экономическая
система, так
и сила режима
ПНИС, как
правилообычно,
в любом
случае
растут вместе
с ростом
дохода на
душу
населения.
Прочие
факты и
доказательства
говорят о том,
что сила
патентной
защиты
растет по
мере с
экономическгоим
развитияем,
но это
начинает
проявляться
лишь при довольно
высоких
доходах на
душу
населения. Действительно,
до недавнего
глобального
укрепления
законодательства
по ИС,
существовала
довольно
последовательная
видимая
связь между
силой прав на
ИС и доходом
на душу
населения.
При низких
уровнях
дохода
защита ИС
довольно
высока (отражая
влияние
колониального
прошлогопрошлое
колониальное
воздействие),
но затем
падает до
наинизшей
точки слабой
защиты при
доходе
порядка 2000
долларов США
(в ценах 1985 года)
на душу
населения.
Такая низкая
точка сохраняется
до дохода
порядка 8000
долларов США,
когда эффект
защиты снова
начинает расти.
Эта связь не
обязательно
причинно-следственная,
но она все же
указывает на
то, что до
сравнительно
высокого
уровня
дохода на
душу
населения
защита ПНИС не
является [72] высокоприоритетной
в
развивающихся
странах.
не является.[73]
Одним
из
простейших
указаний на Одним
из самых
простых,
повидимому.
фактов
воздействиея
системы ИС, возможно,
является само
ее
использование,
особенно
местными
жителями.
Желание
подавать
патентные
заявки, вероятно,
как-то
свидетельствует
о
преимуществах
и
недостатках
системы,что-то,
наверное,
говорит о ее
преимущества
и недостатки,
пусть
даже скореебудь
они
преимущества
и недостатки для
частных лиц, чем
а не
для
общества в
целом. В 888 в
1998 году в Африке (за
исключением
Южной
Африки),
местным жителям
было выдано 35
патентов, по
сравнению с 741
патентами,
выданных
иностранцам. В противоположность
этому, в
Корее
местным жителям
выдали 35900
патентов, по
сравнению с 16990
патентами,
выданных
иностранцам.
В США эти
цифры,соответствующие
цифры
соответственно,
равны 80292 и
67 228 селекционная
работа.[74]
Главный
вывод здесь,
по всей
видимости,
заключается
в том, что для
развивающихся
стран,
которые
приобрели значительный
технический
и
инновационный
потенциал,
со
значительным
техническим
и инновационным
потенциалом
существует,
в целом, существовала
связь со
«слабой», а не
«сильной»
формой защиты
ИС в период
формирования
экономики
этих стран. Поэтому
мыМы поэтому
можем
заключить,
что в
большинстве
низкодоходных
стран со
слабой
научно-технической
инфраструктурой
обязательная
по ТРИПС защита
ИС на всех
уровнях защита
ИС на всех
уровнях не
является
значительным
определителем
роста.
Наоборот,
быстрый
экономический
рост чаще
связан со
слабой
защитой ИС. В
технически
развитых
развивающихся
странах
имеются
некоторые
указания на
то, что защита
ИС
становится
важной
на определенном
этапе
развития,
которыйого,
однако, достигается
лишь тогда,
когда страна
попадает не
достигают до
тех пор, пока
страна не
попадет в
категорию
средне/высокодоходных
развивающихся
стран[75].
Торговля
и инвестиции
Хотя о
прямом
воздействии
на
экономический
рост судить
трудно, много
усилий ушло
на попытки
определить
воздействие
изменений в
правах ПНИС
на торговлю и
иностранные инвестиции.
Часть
существующих
работ на эту тему
мы сочли
бесполезными
для нашего
анализа -
многие из
них
занимаются
не вопросами
воздействия
прав по ИС на
развивающиеся
страны, а тем,
как
укрепление таких
прав в
развивающихся
странах
влияет на
экспорт и
инвестиции
развитых
стран, что
далеко не
одно и то же.
Например,
в некоторых
работах
показано, что
более
сильные
патентные
права в
развивающихся
странах
увеличат
объем
импорта
из развитых
стран (а
также из других развивающихся
стран).[76]
Однако
часть
импорта -
форма передачи
технологии
(например,
импорт
высокотехнологического
оборудования), производит
свое,
независимое,
воздействиес
ее
независимым
воздействием
на
производительность
труда). При
этом,
укрепление
ПНИС также
сильно отражаетсясказывается
на росте
импорта
низкотехнических
потребительских
изделий, что
связывают с
упадком приводящим
к упадку
местной
промышленности,
выпускающей
копии таких
изделий.[77]
Благоприятное
воздействие
этого в развивающихся
странах явно
находится
под
вопросом. Здесь,
возможно,
появляется
доступ к
высокотехнологическому
импорту,
которого
раньше не
было из-за
отсутствия
защиты ИС, но
и недостатки
могут быть
очень
существенными,
в виде потери
занятости,
сужения
производства
и даже замедленного
роста. Этот
вопрос стал
сегодня
очень актуальным
в таких
странах, как
Китай. В
указанных исследованияхработах
также
предполагается,
что страны со
слабым
технологическим
потенциалом
могут испытывать
сокращение
объеманижение
импорта,
потому что
патентное законодательство
приводит к
росту средних
импортных
цен, а значит,
к снижению
импорта. В
прошлом
страны защищали
себя против
возможных
отрицательных
последствий
роста
импорта на
местную промышленность,
вводя путем обязательное
местное
производство
запатентованной
продукции,
как это было
в Швейцарии в
19 веке.
В
отношении
анализа
воздействия
на иностранные
инвестиции
существуют
аналогичные
замечания.
Имеется большое
количество
научной
литературы, в
которой
обсуждается
степень
воздействия
укрепления
ПНИС на
иностранные
инвестиции,
лицензирование
и передачу
технологии. Из-за слабости
данных и
методологии эти
работы чаще
всего
приходят к
неопределенным
выводамвыводы
в этих
работах чаще
всего
неопределенные.[78]
Во многих
работах
частично, в
силу наличия
данныхпо
причинам
данных
ставится
вопрос о том,
как
укрепление
патентных
прав в
развивающихся
странах влияет
на
инвестиции,
производство
и лицензионное
поведение в
них транснациональных
американских
корпораций в
этих странах.
Например,
одним из
выводов в недавней
работе
типичноым
для исследованийработ
с
аналогичными
данными
является
следующее
заключение:
«
результаты
говорят о
том, что если
средняя
развивающаяся
страна
укрепит свой
патентный
показатель
на единицу,
то местный
сбыт в афилиированных
филиалах компаний,
связанных с
американскими,
возрастет
примерно на 2%
от
среднегодового
сбыта
рост
патентного
показателя
средней экономики
на единицу
приведет к
росту акционерных
активов филиаловафилиированных
компаний,
связанных с
американскими
транснациональными
примерно на 16%
стоимости
средних
акционерных
активов.[79]
У
техТем,
кто разрабатывает
вырабатывает
политику той
или иной
развивающейсяихся
страны, рамки
работы
и
постановка
вопроса
несколько
иные. Они пожелают
выяснитьнужно
знать ответы
на несколько
отличные
вопросы. Им,
например, надо
знать,
повлияет ли
укрепление
ПНИС на
экономический
рост,
занятость,
инвестиции и
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
в частном
секторе, а
также на
доступ к
иностранной
технологии,
местные инновации
и на экспорт
(а также
импорт). ВесьмаОчень
немногие
работы, в
целом,
занимаются
такими
критически
важными для
развивающихся
стран
аспектами, не
говоря уже о
том, что никаких
определенных
выводов о
воздействии ПНИС
в них нет.
Из научной
литературы,
однако, ясно,
что сами по
себе сильные
права на ИС
не
представляют
необходимого
или достаточного
стимула для
инвестиций. Если бы
это было так,
то большие
страны с высокими
показателями
экономического
роста,
но слабым
режимом ПНИС
в прошлом и настоящем
не
получали бы
крупных
иностранных инвестиций.
не
получали бы
крупных
иностранных инвестиций.
Здесь
можно
назвать
многие
восточноазиатские
и
южноамериканские
страны, куда
идет большая
часть
инвестиционных
потоков.[80]
Когда
задаются
вопросом о
том, какой фактор
является
самымй важным
длясамый
важный притока иностранных
инвестиций,
ПНИС,
зачастую, вообще
не упоминают.
Например, в
недавних
отчетах
международных
учреждений и
организаций,
посвященных
инвестициям, отчетах
международных
учреждений и
организаций ПНИС
вообще
не упомянут
в качестве
одного из
факторов.
вообще не
упоминают.
Среди таких
отчетов и
отчет
Всемирного
банка «О
глобальном
финансировании
развития» от 2002
года [81] и
отчет
Зедилло «О
финансировании
развития».[82]
В недавнем
проекте
отчета
Всемирного
банка об
улучшении
инвестиционного
климата в
Индии роль
ПНИС также не
упоминается. [83]
Как мы
уже говорили,
есть факты,
свидетельствующие
о том, что в
некоторых
конкретных отраслях
(например, в
химической) и
конкретныхй
направлениях работе
(например, в научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности)
ПНИС может являтьсябыть
существенным
фактором,
влияющим на
решение фирм
пойти на
инвестиции.[84]
Однако
инвестиционные
решения
зависят от
многих
факторов. В
большинстве
низкотехнологических
отраслей, таких,
где менее технически
менее
развитым
развивающимся
странам
легче привлечь
инвестиции,
ПНИС вряд ли
является сколько-либо
важным
фактором при
принятии инвестиционных
решений. Там,
где существуют
более
совершенные технологии,
более
совершенные, но
где их можно
сравнительно
легко
скопировать,
ПНИС может
быть хоть и
не
обязательно -
существенным
фактором
инвестиционных
решений,
если в
странеах есть
и потенциалом
для
копирования
и достаточно
большойим
рыноком,
оправдывающийм
стоимость
патентования
и правоприменительных
мер, а также
при наличии
других
благоприятных
факторов. В
других случаях,
однако, как
указывалось
выше,
введение защиты
ИС связано с
ростом
импорта, а не
инвестиций в
местноего
производство.
Наконец, в
высокотехнологических
отраслях
технически
развитых
развивающихся
стран, вместо
прямых
инвестиций в
производство
владельцы
технологий
могут пойти
на
лицензированиерешить
лицензировать
ее под
защитой
режима ИС.
Таким
образом,
сильные
права могут
помешать
инвестициям,
но способствовать
передаче технологии
и
лицензированию
-этот
аспект,
который
будет нами
рассмотрен в
следующем
разделе.
Из
существующих
работ можно
заключить, что:
·
Имеются
некоторые
указания на
то, что на торговые
потоки в
развивающиеся
страны влияет
степень
силысила
защиты ИС, особенно
в таких
отраслях
(зачастую
высокотехнологических),
которые
«чувствительны
к ПНИС»
(например в
химической и
фармацевтической
промышленности),
хотя
определенных
доказательств
этого нет.
·
Такие
потоки могут
внести вклад
в производственный
потенциал, но
могут также и
нанести вред
местному
производству
и занятости в
местной
«копировальной»
и прочих
отраслях.
Развивающиеся
страны со
слабой
технологической
инфраструктурой,
или страны,
вообще ею
не
располагающие, без
нее, могут
пострадать
от более
высоких цен
на импортные
товары,
защищенные
правами на
ИС.
·
В
большинстве
развивающихся
стран не существует
доказательств
того,
что иностранные
инвестиции
определенно
связаны с
защитой ИС.
·
В
более
технически
развитых
развивающихся
странах, ПНИС
черезчерез
иностранныее
инвестициии
или
лицензированиее
- может
оказаться
важным
фактором,
способствующим
доступу к
защищенным
высокотехнологическим
процессам.
·
В
некоторых
странах трудно
бывает
добиться нужногодостигнутьый
баланса.
Так, в Индии и
Китае,
некоторые
отрасли
могут
выиграть от
защиты ИС, в
то же
время как в
других
отраслях,
развивавшихся
при слабом режиме
ИС, такая
защита
связана с
более
высокими потребительскими в
других
отраслях
ценами.
·
Большинство
данных и
фактов,
касающихся роли
ИС в торговле
и инвестициях,
относиятся
к более
технически
развитым
развивающимся
странам. В
прочих же
развивающихся
странах
можно
заключить,
что - по
меньшей мере
в
краткосрочной
и
среднесрочнуой
перспективах
-
какие-либо
благоприятные
торгово-инвестиционные
факторы вряд
ли
перевешивают
соответствующие
недостатки
системы.
ПЕРЕДАЧА
ТЕХНОЛОГИИ
В
некотором
смысле,
решающим
вопросом в области
ИС является
не то,
поощрять ли
торговлю и
иностранные
инвестиции, а
то, как это поможет
или помешает
развивающимся
странам получить
доступ к
технологии,
необходимой
для их
развития.
Если вместо
собственного
производства
поставщик
иностранной
технологии
лицензирует
производство
соответствующих
изделий
местной
фирмой, то, хотя
это и ведет к
привлечению связано
с
привлечением
меньших
иностранных
инвестиций в
меньших объемах,
общий эффект
может быть
более благоприятным
для местной
экономики,
благодаря
косвенному
вкладу в
местный
технологический
потенциал.
Если
высокотехнологический
импорт
растет в
результате
укрепления
режима ИС, то
можно
добиться
передачи
технологии
(например, в
виде
капитальных
фондов), но
при этом нет
гарантии
того, что
местная
экономика
сможет
усвоить
такую
технологию и
создать
основу для
дальнейших
изобретений
и инноваций.
Такой
способая
передачиа
технологии может, в
силу этого,,
таким
образом,
оказаться
непродолжительнымой.
Как мы уже
видели,
некоторые
страны
научились
пользоваться
своим слабым
режимом ИС для
получения
доступа к
иностранной
технологии,
которую они
затем
развивают
обратным
проектированием,
повышая свой
технологический
потенциал.
Внедрение
ТРИПС
ограничит
возможностиь
развивающихся
стран идти по
этому пути.
Имеются,Есть
однако,
многие иныеразных
других
факторы,
определяющие
эффективную
передачу
технологии.
Здесь очень
важна
способность
страны усваивать
знания и
приспосабливать
их для
собственных
целей, что
зависит от
степени
развития
местного
потенциала
на основе образования,
научно-исследовательской
деятельности
и развития
соответствующих
учреждений,
без чегокоторых
передача
технологии,
даже на самых
благоприятных
условиях,
вряд ли увенчается
успехом.
Эффективная
передача технологии
часто
требует
передачи
ноу-хау и
знаний, не
поддающихся
легкой
кодифицикации
(аналогичных,
например,
патентным раскрытиям
или
информации,
приведенной
в руководствах
по тому или
иному
оборудованию).
Именно по этой
причине
хорошо
продуманные
и финансируемые
программы
содействия
развитию национального
научно-исследовательского
потенциала
не всегда оказывались
успешнымиувенчивались
успехом.
Поскольку
многие
интересные
для
развивающихся
стран
технологии
выпускаются
организациями
развитых
стран, приобретение
технологии
требует
способности
вести
эффективные
переговоры и
понимать
конкретную
техническую
область. Этот
процесс
требует
последовательного
подхода со
стороны
получателей
технологии и
создания ими
необходимых
кадровых
ресурсов и
соответствующих
учреждений. Такие
страныСтраны,
такие как
Корея, сорок
лет назад начинавшие
с низкого
технического
уровня, сравнимого
сегодня с
уровнем
многих
низкодоходных
стран, теперь
сами изобретают
и развивают
инновации.
Такие
аспекты
процесса
передачи
технологии
находятся, в
основном, в
руках самих
развивающихся
стран, но
это отнюдьчто,
однако, не
означает, что
развитые
страны и
международные
программы
более общего
характера,
не могут способствовать
таким
процессам
или затруднять
их. В статье 7
соглашения
ТРИПС говорится
о том, что
ПНИС должны
внести вклад
в дело
«передачи и
распространения
технологии», в. В
статье 8
также
говорится о
том, что
могут понадобиться
быть
необходимы
меры предотвращения
злоупотреблениями
ПНИС, в том числе и
практикиой,
«отрицательно
влияющей на
международную
передачу
технологии». В
статье 40 есть положения
о борьбе с
антиконкурентной
практикойи
в контрактах
лицензирования,
а в статье 66.2 на
развитые
страны возлагается
обязанностьывают
поощрять
свои
предприятия
и учреждения в
деле
передачивать
технологии
наименее
развитым
странам (НРС),
чтобы «дать
им возможность
создать у
себя прочную
и жизнеспособную
экономическую
базу». Эти
положения
ТРИПС
отражают ряд
положений
проекта
международного
Кодекса
действий по
передаче
технологии,
переговоры
по которому между
развитыми и
развивающимися
странами
завершились
неудачей в 1980-х
годах.[85]
С тех
пор
глобальная
экономика во
многом изменилась,
и в мире
перешли с мершагов
по замене
импорта и целенаправленной
индустриализации за,
за стеной
высокимих
тарифнымих
барьерамиов
к
экономической
политике
свободного
рынка, с
упором на
преимущества
низких
тарифов,
глобальной
конкуренции
и меньшегоьшего
правительственного
вмешательства
в экономику
страны.
Значительно
расширились
так
называемые
наукоемкие
отрасли и торговля
высокотехническими
изделиями. Возросло
значение
научно-исследовательской
деятельности
и сократился
эффективный
срок службы
изделий. В
такой
свободной конкурентной
обстановке
фирмы
развивающихся
стран больше
не могут
конкурировать
за счет
импорта «зрелых»
технологий
развитых
стран и
создания
соответствующего
производства
за стеной
тарифных
барьеров.
Сегодня
фирмы опасаются
передавать
технологию
таким способом,
могущим вызвать
нежелательную
для них , не
желая дополнительнуюой
конкуренциюи.
Таким
образом, решение
проблемыа
сегодня
заключается
не столько в
получении
более или
менее «зрелых»
технологий
на
справедливых
и сбалансированных
условиях,
сколько в
доступе к совершенным
технологиям,
необходимым
для конкурентоспособности
в
современной
глобальной
экономике.
ТРИПС
укрепил
глобальную защиту,
предоставляемую
поставщикам
технологии,
однако каких-то
сегодня
не
существует международных
рамок, обеспечивающих
конкурентную
передачу
технологии с минимальным
ограничительным
воздействием
лицензирования (то,
чему которым
когда-то
был посвящен
Кодекс).,
которые
бы
обеспечивали
конкурентную
передачу
технологии и
снижение
ограничений,
связанных с
лицензированием
технологии,
сегодня нет.
Мы не вполнесовсем
уверены в
том, как
лучше
заполнить этот
пробел в
международном
законодательстве
- заново начинатьать
обсуждение
Кодекса в
сегодняшней
изменившейся
обстановке
нереально. Мы
все же считаем,
что
интересам
развивающихся
стран лучше
всего
послужит
содействие в деле
созданияи
собственного
конкурентного
законодательства;
разработкой
же
международной
конкурентной
политики
давно уже
занимается ВТО.
Нам понятно
нежелание
развивающихся
стран идти по
этому пути,
но
разработка
национального
конкурентного
законодательства
и эффективное
международное
сотрудничество
могут послужить
противовесом
тем аспектам
соглашения
ТРИПС,
которые
ограничивают
глобальную
конкуренцию
и в
определенных
обстоятельствах
- затрудняют
передачу
технологии.
В отношении
ТРИПС,
имеются
указания на
неэффективность
положений
статьи 66.2, так
как развитые страны,
судя
по всему,
не приняли с
неохотой
идут на
принятие дополнительных
мер
поощрения
передачи технологии
своими
фирмами и
учреждениями.
Более того,
эта статья
относится
лишь к НРС и представляется
излишне является
чересчур
ограничительной. Как
указывалось
выше, такие
страны
меньше всего
способны усваивать
новую
технологию.
Мы, поэтому,
не считаем,
что следует
рассматривать
весь комплекс
вопросов
передачи
технологии
развивающимся
странам на
основе статьию
66.2.важной
для
рассмотрения
всего
комплекса
вопросов
передачи
технологии
развивающимся
странам. Более
того, ряд
положений
ПНИС, такие
как
обязательное
местное
производство,
которые
ранее
способствовали
передаче технологии,
были
существенно
ослаблены в ТРИПС.
Поскольку
технология,
в основном,
находится в
частных
руках, а
ТРИПС, в целом,
посвящен
защите ПНИС,
а не передаче
технологии,
то мы не
совсем
уверены в
том, что необходимые
рамки для
обсуждения
вопросов передачи
технологии
должны
задаватьсязадает
ли ТРИПС, а
не ВТО в
более
широком
плане. необходимые
рамки для
обсуждения
вопросов
передачи
технологии.
Поэтому
мыМы,
поэтому,
приветствуем
создание
Рабочей
группы по торговле
и передаче
технологии,
которая предоставит
свой отчет
министерской
конференции
ВТО в
следующем
году.[86]
Мы
предлагаем,
чтобы здесь
были включены
и
соображения
о том, можно
ли улучшить
соглашение
ТРИПС в
качестве
единого механизма
поощрения
передачи
технологии, а
также обсудить
необходимыех
мерыах
по
обеспечению
того, чтобы
система ПНИС
стимулировала,
а не
затрудняла
передачу
технологии.
Мы придаем также
большое
значение придаем
и ряду
дополнительных
мер, которые
потребуются
для
поощрения
передачи
технологии.
Хотя
большая
часть
прикладной
технологии
находится в
частных
руках, важно
помнить, что
общественные
затраты на фундаментальную
и прикладную
научно-исследовательскую
деятельность
помогают всему
процессу
технического
развития.
Такие
затраты в
развитых
странах
сегодня зачастую
осуществляют
с явной целью
повышения
международной
конкурентоспособности,
причем все
чаще результаты
таких
исследований патентуются
- эти вопросы
обсуждаются
в разделе 6.
Указанное
финансирование,
по понятным
соображениям,
не только часто
часто
увязывают
с условием
его
использования
лишь
гражданами и
организациями
своей страны,
но и преимуществарезультаты
такой
научно-исследовательской
деятельности
нередко предназначеныограничивают
выгодой
лишь для этихтаких
граждан и
организаций.
Например,
законодательство
США, в силу не
совсем
понятнойбез
какой-либо
научно-экономической
логики, большей
частью в
основном
ограничивает
лицензирование
общественно
финансируемой
технологии
лишь американским
гражданам и
организациям.[87]
Большая
часть
вопросов
передачи
технологии выходит
далеко за
рамки
нашего задания,
мы,
однако, мы считаем,
что
необходимо
серьезно
рассмотреть
вопрос о необходимости
следующих
мер:
·
Поощрение
политики
развитых
стран по стимулированию
передачи
технологии,
например
путем
налоговых
льгот для
компаний,
лицензирующих
свою
технологию
развивающимся
странам.
·
Создание
эффективной
конкурентной
политики в
развивающихся
странах.
·
Предоставление
значительных
общественных
фондов на
развитие
научно-технического
потенциала
развивающихся
стран за счет
научно-технического
сотрудничества,
путем,
например, поддержки
Глобального
исследовательского
альянса,[88]
научно-исследовательских
учреждений
развивающихся
и развитых
стран.
·
Добиться
обязательства
сделать
общедоступными
экономические
выгоды в
результате
общественно
финансируемой
научно-исследовательской
деятельности.
·
Добиться
обязательства
обеспечить
открытый
доступ к
базам
научных
данных.
Раздел 2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Аспекты
обзора
Рассматриваемые
аспекты
Воздействие
правил и
практики
интеллектуальной
собственности
на
здравоохранение
среди бедных слоев
населения
развивающихся
стран является
в последние
годы очень
спорным вопросом
вопросом.
Хотя дебаты здесь
все
это началосьпредшествовали
еще додоговору
ТРИПС[89] и играли
важную роль на
много
фигурировало
во время
переговорахов
по этому
договору,
вступление договорапоследнего
в силу, а
также резкий
рост случаев
заболевания
вирусом
ВИЧ/СПИД,
особенно в
развивающихся
странах, дали
новый толчок
этим дебатам.
В развитых
странах
фармацевтическая
промышленность
- один из
главных
сторонников
глобального
распространения
прав на ИС.[90] Основной
Главный
же предмет
озабоченности
развивающихся
стран -
это
то, как
принятие
режима
интеллектуальной
собственности
повлияет на
усилия по
повышению
уровня
здравоохранения,
экономического
и
технического
развития в
целом,
особенно,
если эффект
от введения
патентной
защиты
приведет к
росту цен и ограничениюснижению
выбора источников
фармацевтических
изделий.
Мы
понимаем
важное
значение
эффективной патентной
защиты для
открытия и
разработки
фармацевтических
изделий. Без
поощрения
патентования
частный
сектор вряд
ли инвестировал
бы крупные
средства в научные
открытияе
и разработку
медицинских
препаратов,
многие из
которых в
настоящее
время
используются и
в развитых и в
развивающихся
странах.
Фармацевтическая
промышленность
развитых
стран
зависит от
патентной
системы больше,
чем
большинство
других
отраслей. Патентная
система Она
помогает ей
окупить
научно-исследовательские
и разработочные
затраты,
получить
прибыль и финансировать
дальнейшие научные
исследования.
Ряд
исследований
установил,
что
фармацевтические
компании больше,
чем в других
отраслях -
считают патентную
защиту очень
важной в
плане затрат
на
научно-исследовательскую
деятельность
и
технические
инновации.[91]
Эта отрасль,
по понятным
соображениям,
много
внимания
уделяет
глобальному
внедрению
ПНИС, но
возражает,
когда ее называют
преградой на
пути
развития
развивающихся
стран.
Например, сэр
Ричард Сайкс,
бывший
председатель
совета
директоров
фирмы GSK, в марте
этого года
заявил следующее:
Немногие
станут
оспаривать
необходимость
защиты ИС в
развитых
странах, но некоторые
иногда
задают
вопрос о целесообразности
необходимости
распространения
ее и на
развивающиеся
страны, что
постепенно
происходит
делается
с на основе
соглашения
ТРИПС. Как я
уже сказал,
защита ИС - не
причина отсутствия
доступа к
медицинским
препарат ам в
развивающихся
странах. В
ноябре
прошлого
года Прошлым
ноябрем в
Дохе страны-члены
ВТО,
собравшиеся
в Дохе, согласились
отсрочить
вступление
ТРИПС в силу
в наименее
развитых
странах до 2016
года. Не
думаю, что ТРИПС
помешает
развивающимся
странам, таким
как Бразилия
или Индия,
получить
доступ к тем
необходимым
медицинским
препарат ам,
которые им
требуются.
С другой
стороны, я
твердо убежден
в том, считают,
что эти
страны имеют
возможность
разрабатывать
собственные
фармацевтические
изделия на
основе
научно-исследовательской
деятельности
и работать в
других
новаторских
отраслях
благодаря
защите ИС,
закрепленной
в ТРИПС.
ТРИПС
необходимо
признать в
качестве
важного орудия
промышленного
развития
развивающихся
стран.[92]
Нам
также хорошо
известны
опасения
развивающихся
стран и их
сторонников,
касающиеся того
влияния,
которые эти
права могут
оказать на
них, ивоздействия
таких прав на
эти страны,
в частности
на цены
фармацевтических
изделий. Рост
цен особо
тяжело скажется
на бедных
слоях
населения,
особенно в
странах без
всеобщей
системы
здравоохранения,
существующей
в
большинствеаналогичной
системам
большинства
развитых
стран. Многие
развивающиеся
страны и
неправительственные
организации,
поэтому,
придерживаются
противоположной
точки
зрения:
Почему
развивающиеся
страны
выдвигают столь
сильные
возражения
против ТРИПС?
Его основной
недостаток в
том, что он
обязывает
богатые и
бедные
страны
предоставлять
патентную
защиту на
новые
медицинские
препараты по
меньшей мере
на 20 лет, что
задерживает патентной
защиты новым
медицинским
препарат ам, чем
задерживается
производство
недорогих препаратов-генериковсхожих
заменителей,
от которых
зависит
здравоохранение
развивающихся
стран и охрана
здоровья бедных
слоев
населения.здравоохранение
среди
развивающихся
стран КПричем
компенсирующих
преимуществ
здесь нет
рост прибыли
международных
фармацевтических
фирм в
развивающихся
странах не выразится
в
перетекании
этой прибыли
вбудет снова
вкладываться
в
дополнительную
научно-исследовательскую
деятельность
в области
болезней,
касающихся
бедных слоев
населения,
-
этот факт,
который
многие
компании
сами
признают в
частном порядке.[93]
Отправной
точкой
нашего
анализа
является то,оображение
о том, что
соображения охраны
здоровьяздравоохранения
должны статьбыть
основным
элементом,
определяющим
характер
какой
необходимо
применять
режима
ИС в
отношении
продуктов
здравоохранения.
Права на ИС предоставляютсядаются
не для того,
чтобы
обеспечить промышленную
прибыль,
кроме как в
случаях
использования
этих
правих
для
улучшения
здравоохранения
в более дальней
перспективе. ПоэтомуТаки
права,
поэтому,
необходимо
тщательно
контролировать
эти права с
целью
обеспечения
такого
положения,
при котором
они стимулируют
выполнениея
задач
здравоохранения
и, что
самое
главное,. в
первую
очередь, не становятся
препятствием предотвращают
на пути
предоставления
соответствующего
лечения получение
соответствубщего
ухода
бедными
слоями
населения
развивающихся
стран.
Справочная
информация
СНедавнтимулом
иек
многочисленным
бурным
оживленные
дебатамы в
последнее
время стала
были, во
многом,
вызваны
эпидемияей
ВИЧ/СПИД,
хотя вопрос
доступа к
медицинским
препарат ам в
развивающихся
странах носитявляется
гораздо
более широкийм
характер. ЗдесьВ
этой области
очень важно
не допустить
того,,
чтобы
вопросы
ВИЧ/СПИДа
несмотря на
их серьезность
и трагичностьважными
- не оказали
навсе
эти
дискуссии чрезмерного
воздействияересчур.
В дополнение
к ВИЧ/СПИДу,
являющимся
важнейшейсамой
важной
причиной
смертности в
развивающихся
странах,
почти
столько же
людей
умирают от
туберкулеза
и малярии. От этихвсех
трех заболеваний
болезней
в прошлом
году умерло
почти шесть
миллионов
человек, и еще
несколько
миллионовы
заболели ими.[94] этими серьезными
заболеваниями.[95] Кроме
того, имеется
ряд более
редких болезней,
в
совокупности
не
менее важных.
которые
совместно
также важны. Среди
них,
например,
корь, сонная
болезнь, лейшманиоз
и болезнь
Шагаса.7
Каждая
группа
болезней требует
решения различных
проблемпредставляет
разные
проблемыразработки
лечения и
ухода, а
также
экономичностики
научно-исследовательского
процесса. й
и
разработочной
деятельности,
Для
таких
заболеваний,
как ВИЧ/СПИД,
рак или
диабет,поскольку
болезни,
встречающихеся
и
в развитых
и в
развивающихся
странах, такие
как ВИЧ/СПИД,
рак или
диабет, научно-исследовательская
деятельность
в частном или
общественном
секторе
развитых
стран может
привести к
разработке
лечения,
подходящего
и для
развивающихся
стран.
Перспективы сильной
защиты ИС в
развитых
странах послужит
существенным
стимулом, поощряющим
инвестиции в
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
с цельюДля
лечения
таких
болезней.,
СледуетНужно,
однако,
отметить, что
некоторые
виды
ВИЧ/СПИДа ,
например, в
Африке, отличаются
от тех,
которые
встречаются
в развитых
странах, так
что здесь,
вероятно, придется
искать
другие
методы
лечения.нужно
искать
другого
лечения.
Там,
где уже
существует соответствующее
лечение
существует,
доступ к нему
зависит от его
доступности
цены
и наличия
здравоохранительной
инфраструктуры.
Мы считаем
стоимость
фармацевтических
изделий
важным
предметом
озабоченности
развивающихся
стран, потому
что большинство
бедных слоев
населения
развивающихся
стран сами
платят за
лекарства, а
государственная
помощь, как
правило,
выборочнавыборочна
и страдает от
нехватки
средств. В
развитыех
странах, в
целом,
положение
другое - там
расходы
оплачиваются,
в основном,
государством
или
страховой
компанией. И
все же
стоимость лекарства
спорный
вопрос политики
в
развитых
странах,
определяемый
политикой
правительства и
оспариваемый
пациентами,
не охваченными
эффективной
государственной
или страховой
схемой.[96]
является
спорным
политическим
вопросом в
развитых
странах в отношении
правительств
и пациентов,
не покрытых
эффективной
государственной
или страховой
схемой.[97] В
развивающихся
странах
неадекватность
инфраструктуры
представляет
собой серьезнуюважную
проблему, в
результате
чего не
используются
и может
означать, что
даже
недорогие
медицинские
препарат ы
не используются,
либо их неверно
используют
неверным
образом,
что
приводит к
появлению
патогенов и
вирусов с
сопротивляемостью
к лекарствам.
/
На
примере ВИЧ/СПИДа, опять
же, нетрудно
проиллюстрировать
эти проблемы.опять-таки
обеспечивает
неоходимую
иллюстрацию
этого
вопроса.
Лечение ВИЧ
антиретровирусными
(АРВ) лекарствами
для борьбы с
условно-патогенными
инфекциями,
связанными с
этой
болезнью, придает
остро
затрагивает
большую
остроту вопросу
доступности.
Минимальная
годовая
стоимиость
лечения АРВ,
даже при больших
скидках или
по ценам препаратов-генериков
употреблении
схожих
препарат ов,
не покрывает
затрат на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
и намного
превышает в
расчете на
душу населения
- годовые
бюджеты
здравоохранения
большинства
развивающихся
стран. В
настоящее время
в
низкодоходных
развивающихся
странах время
расходы
по охране
здоровья на
душу
населения
составляютздравоохранительные
расходы на
душу в
низкодоходных
развивающихся
странах составляют,
в среднем, 23
доллара США в
год, в то
время как
самое
недорогое
тройное лечение
АРВ стоит
чуть больше
200 долларов
США в год.[98] Таким
образом, без
дополнительного
финансирования
медицинских
препарат ов и
здравоохранения,
лечение всех
больных
будет
недоступным
даже при
самых дешевых
ценах препаратов-генериков ов. По
оценкам
Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ), менее 5%
нуждающихся
в лечении
ВИЧ/СПИД
получают АРВ.
Лишь около 230,000
из 6 миллионов
нуждающихся
в таком
лечении в развивающихся
странах
фактически
получают его,
причем почти
половина их
живет в
Бразилии.[99]
Аналогичные
вопросы
доступности
возникают и
при лечении
других
болезней. Например,
туберкулез и
малярия
зачастую являются
самымие
распространеннымие
болезнямии
в
развивающихся
странах, хотя
в последнее время
случаи заболевания
туберкулезом
стали вновьзаново
появляться в
развитых
странах.
Необходимо
также
помнить, что
туберкулез
основная причина
смертности
среди людей,
зараженных
ВИЧ, и что,
примерно,
треть этих
больных около
одной трети
их также
заражена
туберкулезом.[100] В
отношении
этих и других
болезней, встречающихся
исключительно
в развивающихся
странах,
вопрос
заключается
в том, как в достать
средства на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
в области
новых
медицинских
препаратов в частном
и общественном
секторе,
сделав их
доступными
для всех нуждающихся.
достать
средства на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
в области
новых
медицинских
препарат ов, такое
положение,
при котором
они доступны всем
тем, кто в них
нуждается.
Этот
пПоследний
аспектмомент
один из самых
насущных вопросов
наиболее
решающих
вопросов,
касающихсяздравоохранения
развивающихся
стран. Он касается
того,.
как, при
ограниченных
средствах,
получить необходимое
финансирование
для разработки
новых лекарств
и вакцин для
болезней,
распространенных,
в основном,
лишь в
развивающихся
странах.ая
Даже когда в
развитых
странах есть
рынок, где
такие
средства
можно
окупить за
счет высоких
цен, как можно
добиться
доступности
таких
лекарств в развивающихся
странах? Как можно
решить
конфликт
двухч
задач
покрыть
научно-исследовательские
расходы и
снизить
потребительские
цены? Как и в
случае более
широких
рамок
технического
развитияцелом
здесь возникает
вопрос, может
ли система ИС
сыграть роль
в стимулировании
потенциала
развивающихся
стран по
разработке и
выпуску
лекарств,
необходимых как
им самим,
так и
другим
развивающимся
странам?
Именно
вВ этом
контексте и следует
нужно
рассматривать
роль ПНИС в
содействии
решениютаких
дилемм
такого плана.
Мы не будем
здесь заниматься
глубоким
изучением
всехМы
здесь не
будет
глубоко
изучать весь
спектр фактоввопросов,
пагубно
сказывающихся
на здоровьевлияющих
на
здравоохранение
бедных слоев
населения, и
либо
проблемой
качественнойа
системы
охраны
здоровья
здравоохранения
в развивающихся
странах. Все
это
пространно
обсуждалось
в недавнем
отчете
Комиссии ВОЗ
по макроэкономике
и
здравоохранению
(КМЗ).[101]
КМЗ пришла к
заключению,
что для
решения
проблем
здравоохранения
развивающихся
стран, требуются
нужнысущественные
значительные
вливания
дополнительных
общественных
фондов в систему
здравоохранительных
услугение,
инфраструктуру
и
научно-исследовательскую
деятельность
для
решения
проблем
здравоохранения
развивающихся
стран, и что
в отсутствие
значительного
рынка патентная
защита почти
не
стимулирует
научно-исследовательскую
деятельность
в области
болезней
развивающихся
стран.[102] В
отношении же
доступа к
медицинским
препарат ам, Комиссияона
предпочла
координированный
подход создания
системы
дифференцированного
ценообразования[103] в пользу
развивающихся
стран, при
необходимости,
с обширным
использованием
принудительного
лицензирования.[104]
Все
это касается
и нашего
задания. Наша
роль
детальнодетально
указать, как
изменения
правил и
практики интеллектуальной
собственности
могут помочь
делу улучшения
здравоохранения
среди бедных
слоев
населения,
одновременно
понимая, что
такие
изменения
должны быть
дополнены
рядом мер,
предложенных
КМЗ.
Мы это
это
сделаем,
рассмотрев
следующие
три главных
вопроса:
·
Как
система
интеллектуальной
собственности
помогает
разрабатывать
лекарства и
вакцины, в
которых
нуждаютсянужных
бедныем
слоиям
населения?
·
Как
влияет
система
интеллектуальной
собственности
на доступ
бедных слоев
населения к
лекарствам и
на их
наличие?
·
Что
все это
означает для
правил и
практики интеллектуальной
собственности?
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ
Стимулирование
научно-исследовательской
деятельности
По
оценкам, в
мире менее 5%
средств расходуюттратят
на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность
в фармацевтике,
касающуюсяую
болезней,
преимущественно
распространенных
в
развивающихся
странах.[105]
Фармацевтическая
научно-исследовательская
деятельность
в частном
секторе
основана на
коммерческих
соображениях,
и если эффективный
спрос,, даже
в отношении
широко распространенных
болезней,
таких как
туберкулез и
малярия, с
точки зрения
объемов
рынка, мал, даже
в отношении
широкораспространенных
болезней,
таких как
туберкулез и
малярия, то
зачастую
бывает
невыгодно
направлять
существенные
ресурсы на
такие нужды.
В 2002 году
объемы
мирового
рынка
лекарств оценивались
в 406 млрд
долларов США,
из которых на
развивающиеся
страны
приходилось
20%, а на низкодоходные
развивающиеся
страны еще намного
меньше.[106]
Во многих
фармацевтических
компаниях
задачи
научно-исследовательской
деятельности
задаются в
соответствии
с пороговой
окупаемостью.
Насколько мы
понимаем,
крупные
фармацевтические
компании не
желают
заниматься
научно-исследовательской
деятельностью,
если
результатом
ее не становится
будет
продукт с
годовым
сбытом
порядка 1 млрд
долларов США
. Учитывая то,
что частные
компании, в
первую
очередь,
несут
ответственность
перед своими
акционерамив
основном
подотчетны
своим
акционерам,
это с
необходимостью
приводит к
выводу, что
научно-исследовательские
программы нацелены
на рыночный
спрос
развитых
стран, а не на
нужды бедных
слоев
населения
развивающихся
стран, и
посвящены,
таким
образом, в
основном
неинфекционным
болезням.
Безотносительно
к режиму
интеллектуальной
собственности
развивающихся
стран, удля
частного
сектора, в действительностиреальности,
нет
сколь-либо
значительного коммерческого
стимула кпо
осуществлению
научно-исследовательской
деятельности,
имеющей
особуюо
важностьй
для
значительного
числа
представителей
бедных слоев
населения
низкодоходных
стран. В
соответствии
с этим, частный
сектор ведет
очень мало
таких исследованийим
осуществляется
мало такой
работы.
Полный объем
фармацевтической
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности
в частном
секторе
более чем
удвоился вв
последнем
десятилетии
до примерной цифры
в 44 млрд
долларов США
в 2000 году.[107] Трудно
определить, кКакая
именноточно
пропорция
этого объема
направляется
на исследования,
связанныенепосредственно
связана с
болезнями, в
основном
распространеннымипревалирующими,
в основном,
в
развивающихся
странах. трудно
определитьОоднако,
было
подсчитано,
что из 1393
лекарств, утвержденных
с 1975 по 1999 годы,
всего лишь 13
специфически
предназначались
для лечения касались
тропических
болезней.[108] Если
жеКогда
те или иные
болезни
распространены
какв
развитых, так
и
развивающихся
странах,
картина меняется.
Так, частныйм
сектором
ведется
существеннуюая
научно-исследовательскуюая
и
разработочнуюая
деятельность
в области
ВИЧ/СПИД, в
отличие отчто
отличается
от
ограниченных
масштабов
работы в
области туберкулеза
и малярии,
при почти
полном
отсутствии
работ по
таким заболеваниямболезням,
как спящая
болезнь.[109]
В отношении
ВИЧ/СПИД сейчас
имеетсяесть
теперь 64 aутвержденных
в США
препарата ов
для лечения
этой болезни
и
условно-патогенных
инфекций,
кроме того,
ведется
разработкаатывают
еще 103
препаратов а.[110]
В
случае
учреждений
общественного
сектора,
таких как
Национальные
институты
здравоохранения
(НИЗ) в США или
Медицинские
научно-исследовательские
советы (МНИС)
в других
развитых
странах,
ситуация примерно
та жененамного
отличается,
потому что их
научно-исследовательские
приоритеты
определяются,
в основном,
местными
соображениями.
В
общественном
секторе
затраты на
научно-исследовательскую
деятельность
в области здравоохранении
составляли,
примерно, 37 млрд
долларов США
в 1998 году, из
которых 2.5
млрд
долларов США было
израсходовано
затрачено
в низко- и
среднедоходных
развивающихся
странах.[111]
В 2001 году на
одни только
Национальные
институты
здравоохранения
(НИЗ) в США
приходилось
свыше 20 млрд
долларов США.
Кроме того,
благотворительные
организации
потратили,
примерно, 6
млрд
долларов США.[112] На
оОсобуюая
программуа
научно-исследовательской
деятельности
и обучения в
области
тропических
болезней ВОЗ
(известнойая
под
названием TDR) выделяют
всегополучает
лишь около 30 миллионовлн
долларов
США в
год. Точных
проверенных данныхцифр
по
доле затрат
общественного
сектора,
идущей на
болезниимеющие
отношение
развивающихся
стран нет, но
вряд ли эти
цифры она
превышаюет
10%.[113]
Ситуацией в
отношении
лекарств по таким
болезням
теперь
занимаюется
ВОЗ,
Глобальный
форум по
научно-исследовательской
деятельности
в области здравоохраненияи,
организация Mιdecins Sans Frontiθres (MSF), с
ее
инициативой в
области медикаментов,
касающихся
забытых болезней; благотворительныеми
организацииями
также
отпускаютется
дополнительное
финансирование
на развитие
нескольких
общественно-частных
партнерств
для борьбы с
конкретными
болезнями.[114]
Но общий
уровень
финансирования
таких усилий
все ещещее
остается
очень
скромным,й
по сравнению
с масштабымиотношению
к масштабам
проблемы и
глобальными
расходами на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
порядка 75
млрд
долларов США,
и результаты
его неясны.
Какую
роль тогда
играет
защита ИС в
стимулировании
научно-исследовательской
и разработочной
деятельности
в области
болезней, преобладающихвалирующим
в
развивающихся
странах? Все
рассмотренные
нами факты и
доказательства
говорят о
том, что вряд
ли она вообще
играет какую-то
роль, кроме
болезней, в
отношении
которых в
развитых
странах существует
крупный
рынок
(например,
диабет или
сердечные заболеванияболезни). Имеются
указания
на рострост
научно-исследовательской
деятельности
в области
малярии
после
согласования
ТРИПС, но
причинно-следственный
эффект здесь нене
совсем ясен.[115]
Корнем
проблемы
является
отсутствие
достаточного
рыночного
спроса,
который
поощрил бы частный
сектор к
выделению
для
поощрения
частного
сектора на
выделение
средств на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность.
Мы, сМы, следовательно,
считаем, что
присутствие
или
отсутствие
защиты ИС в
развивающихся
странах в
лучшем
случае
имеет
вторичный
эффект в деле
стимулирования
научно-исследовательской
деятельности,
непосредственно
связанной с
болезнями,
преобладающимивалирующими
в
развивающихся
странах.
Таким
образом,
масштабы этойтакой
научно-исследовательской
деятельности
могут быть
неадекватными из-за
неадекватности
эффективного
спроса в
развивающихся
странах, где,
в основном, сконцентрированы
такие
болезни. Более
того,
научно-исследовательская
деятельность,
особенно по
вакцинам,
может потребовать
работынуждаться
в работе с
характеристиками
болезней,
специфичными
для
развивающихся
стран, в
случаях, когда
решение,
найденное
для развитых
стран, не
решает может
не решить проблем развивающихся
стран. Например,
большинствоглавные
вакцины
ВИЧ разврабатывают
для
генетического
профиля подтипа
B,
превалирующего
в развитых
странах, хотя
большинство людей,
болеющих тех,
кто болеет
СПИДом в
развивающихся
странах
имеют типы A и C.
Научно-исследовательская
деятельность
по вакцинам
ВИЧ сложна, с
научной
точки зрения,
из-за мутации
вируса и его
способности
избегжать
иммунной
реакции
организма.[116] Разработка
мМалярийныхе
вакцины
также сложнаы,
с научной
точки зрения,
из-за размераов
и миногообразия
малярийных
паразитов,
и сложности
мутаций.[117]
Таким
образом, для
частного
сектора
научно-исследовательская
деятельность
по вакцинам чреватадает
высокимй
риском и
низкимй
возвратом
на
инвестиции,
особенно в
отношении
типов болезней,
преобладающихвалирующих
в
развивающихся
странах. В
случае вакцин,
рынок
склонен сильнее
недооцениватьет
общественный
эффектбольше,
чемв в
случае
поиска
сответствующих
методовего
лечения.[118]
В случае
малярии,
доминантным
рыночным
фактором
является, скорее, профилактический
спрос
для
туристов из
развитых
стран, чем спрос
на вакцины,
которые куда
более
важны же
больше важны
для
пациентов,
страдающих
от малярии
в
развивающихся
странах.
В
отношении
туберкулеза,
в
развивающихся
странах проживаетимеются
около восьми
миллионов
человек,
больных этой
болезнью, но
за последние
30 лет не было
разработано ни
одного нового
классаразработали
новый класс
противотуберкулезных
препарат ов.
Применяемыйое
в настоящее
время курс
леченияе
требует
принятия
набора
препарат ов в
течение
шести и более
месяцев. ПЛекарственный
препарат ,
который
давал бы тот
же эффект за
два месяцав
течение двух
месяцев, мог
бы иметь
колоссальное
занчение для
решения
задачиимел
бы очень
большое
значения для
глобальной
войны с этой
болезнью. Из-за
характеристик
болезни
научные
задачи по
производству
такого
медицинского
препарат а
далеко не
простые.[119]
По оценкам
Глобального
альянса по разработке
противотуберкулезных
лекарственных
препарат ов,
примерный
рыночный
спрос
(частный и
общественный,
в том числе в
развитых
странах) может
дать
солидный
финансовый воврат
на капитал,
направленный
на разработку
новых и
улучшение
старых
препарат ов.
Тем не менее
полагают, что
без участия общественного
сектора[120]
защита ИС и
благоприятные
экономические
показатели
все равно не
вызовут необходимых
инвестиций.
Современное
бизнес-моделирование
научно-исследовательской
деятельности
фармацевтических
компаний
учитывает,
что расходы
на научные исследования
и прибыль
зависят от
сбыта нескольких
«ударных»
лекарств (со
сбытом, обычно,
свыше 1 млрд
долларов
США в
год), которые
помогают
профинансировать
высокий
процент неудач
научно-исследовательского
процесса.[121]
Но такие
компании
свободны
заниматься
перспективными
направлениями,
кудап бы
они не
привели
(например,
лечением
непредвиденных
условий
болезней и
эффектов).
Экономика
научно-исследовательской
деятельности в отношении
конкретного
лечения той
или иной
болезни
должна быть
очень
благоприятной,
чтобы
вызвать
существенные
научно-исследовательские
усилия.
Некоторые,
как
например,такие
как
вышеупомянутый
сэр Ричард
Сайкс,
утверждают,
что защита ИС
в
развивающихся
странах с существенным
научно-техническим
потенциалом
поможет
расширить
масштабы
научно-исследовательской
деятельности,
посвященной
болезням
развивающихся
стран. Здесь,
однако, Этому,
однако, нет
никаких
доказательств,
потому что
большинство стакихоответствующих
стран лишь
недавно
ввели у себя
законодательства,
соответствующие
ТРИПС, или вскоре
введут их.либо
Но мыМы,
однако, не
видим причин,
по которым бы
фирмы рразвивающихся
стран с
научно-исследовательским
потенциалом реагировали
бы на
введение
глобальной реагировали
бы на
глобальную
ИС и рыночное
стимулирование
иначе,
чем аналогичные
фирмы
развитых
стран.существенно
по-другому,
отличаясь
этим от фирм
развитых
стран. Судя
по всемуНа
это имеются
указания , подобное
поведение
характерно для
этих фирм
лишьв
отношенииповедения
соответствующих
фирм в
таких страпнах,
как Индия.[122]
Реальность
такова, что
частные компании
направляют
средства
туда, где видят
для себяних
максимальный
возврат.
Более того,
пользующиеся
широкой
поддержкой мерышаги
по дифференцированномуразличному
ценообразованию,
снизят маржу
прибыли и
ьпоощрение
идущую
на
стимулирования
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности
в развивающихся
странах, что
дополнительно
подорвет
поощрение
научно-исследовательской
деятельности
в области
болезней
развивающихся
стран.
Мы,
таким
образом, не
считаем, что
глобализация
защиты ИС выразится
вдаст й
существенномый
вкладе в
дело
роста затрат частного
сектора на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность,
в
частном
секторе посвященную
в
отношении
лечениюя
болезней,,
распространенных
в
особенно
важных для
развивающихся
странах.
Единственным
реальным истичным
способом добиться
этогоздесь
является
увеличение объема
международной
помощи такой
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности.
КМЗ
рекомендовала
дополнительные
годовые
затраты в 3
млрд
долларов США
на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность
через новый
Глобальный
фонд
научно-исследовательской
деятельности
в области
здравоохранения,
а
также существующие
механизмы ичерез
общественно-частные
партнерства.[123]
Необходимо
тщательно
продумать,
как увеличивать
общественное
финансирование
научно-исследовательской
деятельности.
Оно
не должно быть
некимЭто
не должна
быть форма
субсидированием
существующей
фармацевтической
промышленности,
хотя у этойа
индустриия
здесь
определенно
важнаядолжна
играть в этом
важную
роль. СледуетНеобходимо
воспользоваться
возможностью
наращивания
потенциала самих
развивающихся
стран в
области
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности
по лечению
особо важных
для них
болезней. В
технически
более
развитых
развивающихся
странах такая
научно-исследовательская
деятельность
может оказаться
в высшей
степенибыть
очень
экономически
эффективной.
Например,
фирма «Дженерал
Электрик»
создала свой
второй по величине
в мире
научно-исследовательский
центр в
Индии, гдев
нм работаюют
около 1000
докторов
наук. Е, еще
27 других
глобальных
фирм создали
в Индии
научно-исследовательские
центры за
период с 1997
по 1999 годы.[124]
Таким
образом,
научно-исследовательской
деятельностью
можно
заниматься
при активном
участии
избранных
научно-исследовательских
заведений и
компаний
развивающихся
стран,
пользуясь
имеющимися
там кадрами и
более
низкими
научно-исследовательскими
и
разработочными
затратами.
Необходимо
также
продумать учрежденческую
структуру
финансирования.
Сеть
сельскохозяйственных
научно-исследовательских
институтов CGIAR[125]
(обсуждаемых
в разделе 3)
представляет
одну такую
возможность.
Более
перспективным,
в этом
контексте,
может быть
сеть
общественно-частных
партнерств в
развивающихся
странах, которые
пользовались
быуясь высокой
концентрацией
научно-исследовательских
ресурсов в
общественном
секторе, ано
также
возможностью
создания
научно-исследовательского
потенциала в
частном секторе. В
частности,
все
связанное с
интеллектуальной
собственностью
в плане
указанной
научно-исследовательской
деятельности
должно
максимально
облегчать
доступ
бедных слоев
населения к
продуктам
такой
деятельности.
Необходимо
увеличить
общественное
финансирование
научно-исследовательской
деятельности
в области
здравоохранительных
проблем
развивающихся
стран. Такое
дополнительное
финансирование
должно пользоваться
существующим
потенциалом
развивающихся
стран,
наращивая
его и поощряя
новые
возможности
в
общественном
и
частном
секторах.
Хотя
ИС может и не
вносить
особого
вклада в дело
дополнительной
научно-исследовательской
деятельности,
касающейся
бедных слоев
населения,
ясно, что имеются
важныей
аспекты
воздействия
патентной
системы на
процесс
научно-исследовательской
деятельности.
В то
время как
патентная
защита стимулирует
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность,
патентование
промежуточных
технологий
(особенно
генных)
нужныхнужных
в процессе
такой
деятельности , может, на,
делефактически,
привести к утрате у дестимулированию
научных
работников
стимула,
с точки
зрения
доступа или
случайного
нарушения
необходимой
запатентованной
технологии.[126]
Эта та
область, в
которой
патентная практика
развитых
стран может
непосредственно
повлиять на то,
какая именно
научно-исследовательская
деятельность
осуществляется
для населениялюдей
развивающихся
стран,
воздействуя
на патентные
режимы,
принимаемые
развивающимися
странами.
Положения ИС
в
общественно-частных
партнерствах
также
затрагивают
важные аспекты
управления
вопросами ИС
в пользу бедных
слоев
населения. Мы
рассмотрим
эти вопросы в
разделе 6.
ДОСТУП
БЕДНЫХ СЛОЕВ
НАСЕЛЕНИЯ К
МЕДИЦИНСКИМ
ПРЕПАРАТ АМ
Как
мы уже
упоминали,
цель
патентования
-
предоставление
временной
монополии
для
стимулирования
создания
новых
изобретений
и их коммерческого
использования.
Однако
следует
отметитьНужно,
однако,
заметить,
что
монопольное
право на
основе
патента, обычно,
лишь
запрещает
кому-то
другому изготовлять,
использовать
и продавать
конкретное
изобретение, не
предотвращая,
при этом,
конкуренции
со стороны
других
лекарств - запатентованных
или нет -
которые
лечат ту же болезнь
или недуг.
Тем не менее,
при прочих равных
условиях, предполагаетсясуществует
предположение
о том, что
производитель
зазапатентованного
препарат а,
будучи в
состоянии
запретить
копирование,
попытается
заработать
монопольную
прибыль,
взимая более
высокие цены,
по сравнению
с ценами,
взимаемыми в
отсутствие
такой
монополии.
Это, собственно, и
есть основа
такой
системы. С
обществом как
бы существует
договоренность,
что
выгоды,
связанные со
стимулированием
инноваций
(например,
создания
жизненно
необходимых
лекарственных
препаратов ,
которых бы
без
патентной
системы не
было) должны
перевешивать
издержкисоответствующие,
связанные с
более высокой
стоимостью.
Принимая
во внимание
тот факт, что
в развивающихся
странах
большинство
людей бедные,
и что
патентная
защита
приводит к росту
цен,
необходимо
тщательно
проанализировать
ивыдвигаемые
кое-кем утверждения
о том,аргументы
в пользу
того, что в
развивающихся
странах
патентование
вряд ли
существенно
влияет на
доступ к запатентнованным
фармацевтическии
изделиям. Данный
аргумент
покоится на
двух китах. Во-первых
утверждаютют,
что
поскольку,
мол, де
авторы не
всегда
патентуют
лекарственные
препарат ы,
особенно в
малых
развивающихся
странах, то
существенной
проблемы с
доступом к
медицинским
препарат ам
там нет.
Во-вторых,
говорят, что
даже если существует
патент, то
это либо не
особенно влияет
на
ценообразование,
либо тут
вступают в силуимеются
другие более
важные
факторы,
делающие лекарства
недоступными
для бедных
слоев населения.
Степень
распространения
патентования
Несомненно
то, что, хотя
патентная
защита фармацевтических
изделий
существует в
большинстве
развивающихся
стран,
транснациональные
компании патеннтуют
свои
препарат ы не
во всех таких
странах. Это,
обычно, относится
к странам с
малыми
рынками и
ограниченным
техническим
потенциалом.
Компании, в
таких
случаях,
считают, что
им не стоит
тратить
средства на
получение и
поддержание
в силе
патента на
малом рынке,
при низком
риске
нарушения
патента.
Например, в
недавнем исследовании
по 53-м
африканскимх
странам
было
установлено,
что уровеньстепень
патентования
15 главных
антиретровирусных
лекарств в
них
составляла
лишь 21.6%
возможных патентов.[127]
В 13 странах
на эти
медицинские
препарат ы
вообще не
было
патентов. На этом
основанииэтого
было сделано выведено
заключение,
что
поскольку
степень
патентования
столь низка,
патентование
«в целом, по-видимому,
не является сегодня
существенным
барьером
на
пути лечения
ва
Африке», хотя
и было
признано, что
положениеэто
может
измениться,
когда ТРИПС
вступит в силу
во всех
странах-членах
ВТО.[128]
Хотя
установленная
в
исследовании
общая степень
распространенности
патентования
была, в целом,
сравнительно
низкой,
удивляет то,
что она не
была даже еще
ниже,
учитывая
очень низкую
степень лечения,
малую
величинуость
рынков и тот
факт, что
лишь немногие
страны в
состоянии ввыпускать
схожие
препарат ы-генерики.
Степень
распространенности
патентования
намного выше
в странах,
где
существует
значительный
рынок и есть
технический
потенциал. Таким
образом, в ЮАРжной
Африке (в
одной лишь
этой стране
насчитывается
свыше 17%
случаев заболевания
ВИЧ из
общего числа
заболеваний
в Африкев
Африке), 13
из 15 лекарств
запатентованы.
Имеется по 6-8
патентов на
эти лекарства
в Ботсване,
Гамбии, Гане,
Кении, Малави,
Судане,
Свазиленде,
Уганде,
Замбии и Зимбабве,
-
страны,на
которые
совместно
приходится
еще 31% случаев
ВИЧ в Африке,
к югу от
Сахары.[129]
Представители
отрасли указывают
на то, что
степень
распространенности
патентования
в отношении
других лекарств
для других
болезней
намного ниже или
равна нулю. До
последнего
обзора,
проведенного
в этом году,
было
установлено,
что Перед
последним
просмотром в
этом году
запатентовано
было менее 5%
лекарств из
Перечня
важнейших
лекарств ВОЗ.[130]
Отраслевое
исследование
показывает,
что в 94%
обследованных
стран нетли
патентования
на лекарственные
средстваа
против
туберкулеза
и
малярии, и
что ни в
одной стране
нет
было
патентов на
все
соответствующие
лекарства
против этих болезней.
Не
имелось ни
одного
патентаВообще
не было
патенто на
лекарства fпротив
трипаносомии
или болезни,
вызывающие
понос болезни.[131]
Представители
отрасли
говорят, что
даже там, где
нет
патентной
защиты,
лекарств все
равно нет.[132]
Например,
утверждают
они, несмотря
на наличие
дешевых
вакцин
против
широкораспространенных
общих
заболеваний
(со
стоимостьютоящих,
например,
менее 1
доллара США за
поливалентную
вакцину), попо Расширеннойой
иммунизационнойой
программее(РИП)
(РИП)
ВОЗВОЗ,
несмотря на
несомненные
успехи,
многие дети
все равно остаются
без
вакцинации, в
которой они
нуждаютсяне
вакцинированы.
Это,
рЭто, разумеется,
верно, но из
этого не
следует, что
патентная
система не
имеет
отрицательных
последствий.
Даже если бы
в тех или
иных странах,
в отношении тех
или иных
изделий,
патентования
вообще
бы не было
бы вообще, , патентная
система все
равно могла
бы влиять на
доступ к
медицинским
препарат ам.
Большинство
низкодоходных
развивающихся
стран вынуждены
полагаться
на импорт, а
существование
патентов в стране-эксапортере
может
позволить
держателю
патента
предотвратить
экспорт в
другие
страны, особенно
при контроле с
помощью
контроля
каналов
распространения.
Это еще одна
причина, по
которой
компании
могут прибегнуть
к
выборочному
патентованию
в таких странах,
как Южная
Африка,
потому что
она является
потенциальным
поставщиком
для своих более
бедных
соседей на
юге Африки (илилибо
в других
местах). В
настоящее
время страны-импортеры,
гв
которых де
нет
патентной
защиты, имеют
возможность
импортировать
схожие
препарат ы-генерики,
в основном из
Индии, потому
что в Индии
нет необходимости в
защите
фармацевтических
изделий до 2005
года. Но
после
вступления
ТРИПС в силу,
новые и те
лекарства,
патентные
заявки на
которые были
поданы после
1994 года, станутбудут
патентуемыми,
и
возможность
такого импорта
со временем,
соответственно,
снизится. СледуетНужно,
однако, отзаметить,
что все
существующие
лекарства-генерики,
выпускаемые в
виде схожих
препарат ов в
Индии и
других местах,
будут и в
дальнейшем продолжать
бывть
доступны для
экспорта, при
условии,
разумеется,
что они не
запатентованы
в стране-импортере.
Мы еще
вернемся
ниже к этому
вопросу при
обсуждении
возможных мершагов.
Патентование
и цены
Не вызывает
сомнения
значение
вопроса цен
медицинских
препарат ов
для бедных
потребителей
из
развивающихся
стран;,
тем
не менее,
следует однако,
подчеркнуть,
что если, в
результате
существования
патента,-
по причинам
патентования
- больной
должен
больше платить
платить за
фармацевтические
изделия, то
это означает,
что меньше
средств
остается на
другие предметы
первой
необходимости,
такие как питание
и жилье. С
другой
стороны,
неиспользование
медицинских
препаратов по
причине их
отсутствия
или недоступности
может привести
к
хроническому
ухудшению,
по
прошествии
определенных
сроков, привести
к плохому
состоянию
здоровья и
преждевременной
смертности. Именно
поэтому такПо
этой причине,
важно
рассматривать
воздействие
введения
режима ИС на
цены, понимая
при этом, что
на них влияют
многие
факторы.
Среди них - покупательная
способность,
конкуренция, рыночная
структура,
спрос, правительственные
нормы и
контроль.
Особо
сложно
непосредственно
выделиить
воздействие
введения
патентования
на рынки
развивающихся
стран. Здесь
частично
приходится
полагаться
на эконометрическое
моделирование
воздействия
патентной
защиты и
частично на
опыт развитых
стран, где
производителисхожих
препарат оов-генериков
конкурируют
с производителямитеми,
кто
выпускает
лекарств,
разработанныхе
в процессе
научно-исследовательской
деятельности.
Развитые
страны
В
развитых
странах
существует
множество доказательств
в пользу
того, что, при
конкуренции
со стороны
препаратов-генериков,что
по окончании падаетсрока
патента
ценыа
падают
довольно
быстропатенты.
Имеютсяа
теряют силу,
в
предположении
наличия
конкуренции
со стороны
схожих препарат ов. указания
на то, что
падение цен
быстрее там,
где на рынке
больше
конкурентов,
выпускающихсхожие
препарат ы-генерики.
Правительство
может
поощрить
снижение цен,
способствуя
ускоренному
выпускусхожих
препарат ов-генериков,
что было,
например,
сделано в США
пов
Акту е1984
года о
конкуренции
цен на
лекарства и
сроках
патентования
(известного
под названием
Акта
Хэтча-Уоксмана).
В результате,
доля выписываемых
врачамихожих
препарато овв-генериков
возросла с 19% в
1984 году до 47% в 2000
году.[133] В
других
развитых
странах,
таких как
Великобритания,
доля генериковсхожих
препарат ов на
рынке
зачастую
гораздо выше.
Фармацевтические
компании
также велиначинали
дорогостоящиеие
судебные
процессы с
целью
задержать
или предотвратить
выход на
рынок генериков
исхожих
препарат ов и для
защититьы
или продлитьения монополии
на препарат ы,
пользующиеся
болльшим
спросом.[134] В
связи с этим, не
следует
забывать,Необходимо,
соответственно,
помнить,
что на
производителей
препаратов-генериковсхожих
препарат ов, рыночное
стимулирование
действует
точно так же, как
и на фармацевтику
на основепромышленность
на основе
научно-исследовательской
деятельностидействует
рыночное
стимулирование,
и что для
достижения
наинизших
возможных цен
на
лекарственные
препарат ы
нужно
поощрять
конкуренцию среди
производителей
препаратов-генериковсхожих
препарат ов. В
недавнем
американском
исследованиий
посвященной
США работе было
установлено, что
цены падают,
когда
выпускают
конкурирующие
препараты-генерикисхожие
препарат ы, но
что требуетсядля
по
меньшей мере
пять
конкурирующих
генериков
для доведения
цен до
минимума .[135] необходимо
иметь по
меньшей мере
пять схожих
конкурирующих
препарат ов.[136] Число
рыночных
конкурентов
и скорость
выхода на рынок
зависят от
ожидаемых
прибылей. Критически
важнымРешающим
выводом
здесь
является то,
что все преимуществавыгоды
от
конкуренции
ощущаются
лишь на
довольно
больших
рынках
при
меньших
рынках найдется
меньше фирм-производителей
генериков,
которыесхожих
препарат ов сочтут
их выгодными
для себячитают
стоящим для
себя, и потребительские
цены там будут
выше. Это
имеет непосредственноебольшое
отношение к
положению
развивающихся
стран, о чем
пойдет речь
ниже.
Развивающиеся
страны
Развивающиеся
страны также
могут ограничить
стоимость
патентной
системы для
населения,
способствуя
выпуску и
конкуренции препаратов-генериков.схожих
препарат ов. В
большинстве
случаев,
однако, их
возможность
сильно
ограничена
мелкомасштабностью
рынков и
отсутствием
собственных
технических
и
производственных
мощностей
и
регулированиявозможностей.
Именнотакая
невозможность
создания
конкурентной
обстановки в
отношении зазапатентованных
препаратов и генерикови схожих
препарат ов делает
наличие
патентов
патентование
в таких
странах
более
спорным, по
сравнению с развитымими
рынкамими,
где легче
создать
сильную
конкурентную
обстановку,
поддерживая
ее с помощью
регулирования.
Международные
сравненияМеждународные
сравнения
показывают,
что копии лекарств,
запатентованных
в других
местах, лекарств
продаютсябывают
намного
дешевле,
на рынках без
патентной
защиты. В
Индии, где такой
нет
защиты нет,
- самые
низкие в мире
ценыцены.
В одной из
наших работ
было
установлено,
что в
отношении 12
лекарств по ряду
заболеванийболезней
цены в США
былибыли
отцен в 4-х доцен
в 56 раз выше
соответствующих
цен в Индиия,
при этом даже
при таких
ценах для
многих в Индии
лекарства
все равно остаются
недоступными.[137]
При исследованииработах
о политики
ценообразования,
принятой в
транснациональных компаниях,
однако (в
основном, в
отношении
АРВ), имеются
указания на
то, что до
недавнего
времени
корреляция
между ценами
на
лекарственные
препарат ы
и доходом
страны на
душу
населения
была крайне
незначительной.
Теоретически,
тТакую
корреляцию
можно было бы
ожидать,
исходя из
того, что
из
теоретических
соображений,
потому что
компании
могут
увеличить
прибыли, если
вместо единой
глобальной
единой
цены
установят
будут брать
более
низкие цены
на
низкодоходных
и высокие цены
на высокодоходных
рынках
рынках (так
называемое эдифференцированное
ценообразование).
Но было установлено, чтобыло
найдено, что
разница
в ценах междуцены
одной
страной и
другой в
разныхносила
довольно случайный
характер
странах
были более
или менее
случайными.
В некоторых
развивающихся
странах цены
были выше,
чем в США, в
других - ниже.
В лучшем случае
существовало
очень слабое
соотношение
оптовых цен с
доходом на
душу
населения.[138]
Фактическая
цена для
пациента
осложняется
импортными
сборами,
местными тарифами,
налогами и
прибылью
оптовиков.[139]
ЗаВ
последние
два года
ситуация
могла несколько
измениться в
связи с тем,
что,
поскольку
компании
резко
снизили цены,
реагируя на
международное
давление, в
основном, со
стороны
неправительственных
организаций
и потенциальных
конкурентов,
выпускающих препараты-генерики,
главным
образом всхожие
препарат ы, в
особенности
из Индии.
Например, за
период с
июля 2000 года по
апрель 2002 года
для
избранных групп
потребителей
годовая
стоимость фирменного
тройного
набора АРВ
упала с
более, чем 10000
долларов США
до немногим
более 700
долларов США.
К тому
временинаинизшая
цена на генерикисхожие
препарат ы
этого набора
упала до 209
долларов США.[140]
Но для
оценки
воздействия
введения
новых режимов
патентования
в
развивающихся
странах необходимобыло
прибегнуть к
восспользоваться
эконометрическомуим
моделированиеюм.
Имеется
небольшое, но
постоянно
растущее число
исследований,работ,
посвященных
почти
исключительно
низко- и
среднедоходным
развивающимся
странам, уже
располагающимв
которых
имеется значительнойая
фармацевтическойая
индустриейя.
В этой научной
литературе
продемонстрировано,
что введение
режимов
патентования
в таких
развивающихся
странах уже привело
или приведет
к эффекту
роста цен. Оценки
колеблются
в широких
пределах
от 12% до свыше 200% - колеблются
в широких
пределах и
зависят от конкретного
лекарства
и конкретной
страны, но
даже нижний
предел прендполагает
весьмаочень
значительныеые
затраты
потребителя.[141]
Широкие
пределы роста
цен указывают
на некоторуюстепень
неопределенностьи
в отношении
динамического
эффекта от введения
патентования,
заставляя
предположитьа
также,
что
результаты
введения
патентования
во многом будетво
многом зависеть
отопределяются
рыночной
структуры и
спросаом,
в частности,
от степениью
конкуренции.
Имеются
также
доказательства
того, что потребление
медицинских
препарат ов
зависит от цен.
По
приведенным
в одной из
работ
оценкам,
в Уганде
снижение
стоимости
фирменного
тройного
набора АРВ с 6000
долларов США
в год до
600 долларов
США в год
приведет к
росту спроса
на лечение с 1000
пациентов
до 50000, пациентов
при
сравнительно
скромных
инвестициях
в лечебную
инфраструктуру
(порядка 4-6 млн
долларов
США).[142] Другое
исследование,В
другой
работе,
также
касающееся
Уганды,
установило,быо
найдено,
что снижение
цен на
фирменные
изделия
компаний, благодаря
предоставленным
скидкам, которые
с
дополнительноым
упали еще и жением
за счет
импорта генериков,схожих
препарат ов
соответствует
утроению
числа
пациентов с 2000
по 2001 годы.[143] По
оценкам,
приведенным
в одном из исследований,
посвященныхй
из работ о
глобальнымх
эконометрическимх
даннымх, следствием
эффект
от
устранения
патентования
в представительном
наборе разных
развивающихся
странах
станет 30%-ное
увеличение
доступа к АРВ
пусть
даже ихоть
он и
отсчитывается
с очень
низкого
начального
уровня приведет
к 30%-ному
увеличению
доступа к АРВ.[144]
Эффект
от введения системы
патентования,патентной,
вероятно, скорее
всеговероятно,
будет
сильнее
всего ощутим
ощущается
в группе
стран с
развитым
производством
препаратов-генериковсхожих
препарат ов,
при наличии
определенной
конкуренции, сдерживающей
цены.влияющей
на снижение
цен. Факты свидетельствуют
говорящие
о том, что в
некоторых
странах
введение патентования
(например, в
Италии в 1978
году) илилибо
укрепление сдействующихоответствующих
режимов,как
в Канаде в 1990-е
годы, путем
усиления
рыночной
силыусиливает
рыночную
силу
иностранных
транснациональных
компаний, как
в Канаде в 1990-е
годы, приводит и
приводит к
консолидации
и реорганизацииструктурированию
местной
индустрии.
Это может выразиться
всказаться
на
существенном
повышении
потребительских
затрат за
счет
снижения
степени
рыночной
конкуренции
и роста
импорта.
Спорным остается
вопрос о том,
можно ли
уравновесить
такие такие
более
высокие
затраты за
счет каких-то
преимуществ
(например,
если это является
толчком
к поощрениюусилением
местной
научно-исследовательской деятельности).
В Италии и
Канаде двух
развитых
странах -
соответствующие
факты на эту
тему носят противоречивыйе
характер.[145] В
Италии
транснациональные
компании скупили
много
местных
компаний, объем
экспорта
препаратов-генериковсхожих
лекарственных
препарат ов
упал, а
импорт зазапатентованных
лекарств
увеличился.
Доказательств
роста
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности,
практически, найдено
почти
не было. В
Канаде
соответствующие
факты говорят
о
существенном
росте
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности,
частично в
результате
договоренности
с
транснациональными
изготовителями,
а также ввиду
налоговых
послаблений
по Акту о
подоходном
налоге (1987 год),
однако,
научно-исследовательская
и
разработочная
деятельность
сосредоточена,
в основном,
на
доклинических
и
клинических
испытаниях и
улучшениях
производственнных
процессов, а
не на разработке
новых
молекул.[146] В
обеоих
странах
использовалсяиспользовался
контроль цен
для
ограничения
роста цен на запатентованную
продукцию.
В
развивающихся
странах с
сильной
отраслью
производства
сгенериков,хожих
препарат ов
перспективы
также неясны.
С одной
стороны, на
преимущественных
производителей
препаратов-генериков
введение
патентной
защиты
должно
повлиять
отрицательно.
Ксхожих, в
основном,
лекарственных
препарат ов
введение
патентной
защиты должно
повлиять
отрицательно,
роме
того, пострадаюет
потребителиь
и
правительство,
которым
придется больше
платить
от
необходимостиплатить
за лекарства
с патентной
защитой. С
другой стороны,
производители,.
развивающие
свой
научно-исследовательский
потенциал и либо
те, кто
могут
получить
лицензии от
транснациональных
компаний,
могут считать,ощущать,
что им патентная
защита им выгодна.
ТакиеТ противоречивые
выводы объясняют,
почемуакие
противоречивые
воздействия
объясняют
почему
введение
патентной
защиты в Индиия
остается
предметом
спора. Часть
индийской
фармацевтической
промышленности
поддерживает
введение
патентной
защиты и
готовится к
расширению
научно-исследовательской
деятельности
в преддверии
этого
событиявосхищении
такого
введения,
другая же
часть сильно
противится
этому. Это, разумеется,
не нравится потребительским
группам защиты
потребителя
и
неправительственным
организациям.
По
мере
внедрения
соглашения
ТРИПС, поставка
генериков
новых
патентованных
препаратов,схожих
препаратов
в целом,
будет все
больше
затрудняться.
В настоящее
время угроза
международной
конкуренции
со стороны
поставщиков генериков,
схожих
препаратов,
копирующих запатентованные
лекарства,
сдерживает
рост цен в
странах без
патентных
режимов и до,
некоторой
степени,
также и в
странах с
патентными режимами,
где
существует
реальная
угроза принудительного
лицензирования.
Когда во всех
странах-производителях
будетн
введено
патентное
законодательство,
круг генериковсхожих
препаратов
сузится, будучи
ограниченться
старыми
лекарствами с
истекшими
сроками
патентов.
Такое положение
не будет
отличаться
от положенияположения
в развитых
странах, но
развивающиеся
страны не смогут
позволить
себе
приобретать
новые запатентованные
медицинские
препараты. В
патентной
системе и за
ее пределами
необходимо
будет найти
способ
создания
конкурентной
обстановки,
позволяющей
уравновесить
отрицательное
воздействие
патентования
на потребительские
цены в
развивающихся
странах. Ниже
мы
рассмотрим
ряд шагов,
необходимых
для
обеспечения
такого
положения,
при котором
система
патентования
поддерживает
право страны
на охрану
здоровья
человека и поощрение
доступа к
медицинским
препаратам, в
соответствии
с
Декларацией,
принятой в
Дохе, касающейся
вопросов
ТРИПС и
здравоохранения (далее
по тексту
Декларация,
принятая в
Дохе см.
врезку 2.1).
Прочие
факторы,
влияющие на
доступность к
медицинскимх
препаратамов
Представители
фармацевтической
промышленности
часто
утверждают,
что в
развивающихся
странах главнымважным
ограничением
на доступность к
медицинскимх
препаратамов
является не
патентная
защита,ование,
а отсутствие
затрат на
здравоохранение
и соответствующейподходящей
здравоохранительной
инфраструктуры,
позволяющей
безопасно и
эффективно
применять
для
безопасного
и
эффективного
введения
медицинскиех
препаратыов.
Неправильное
применениевведение,
говорят они,в
дополнение к
неэффективности,
может
привести к
патогенной
сопротивляемости,
не говоря уже
о
неэффективности
лечения. В
случае заболевания
ВИЧ, при
быстрых
мутациях вируса,
широкое
распространение
АРВ, без адекватной
инфраструктуры,
может привести
к возникновению
сопротивляемости
вируса
лекарственным
препаратам.[147]
Представители
отрасли
также утверждают,
что препараты-генерики
этого типа схожие
варианты запатентованных
средствлекарств
бывают
низкокачественными
могут быть
низкого
качества и
даже вредными
для здоровьявредными.[148]
В
отчете
фармацевтической
ассоциации
США
говорится:
«При
ограниченных
финансовых
ресурсах способность
этих стран
бороться со СПИДом
и рядом
других смертельных
заболеваний
снижаетсяена
из-за неадекеватной
инфраструктуры,
культурных
барьеров и
неудовлетворительного
руководства системой
здравоохранения.
Некоторые
развивающиеся
страны также
страдают отот
нежелания
политического
руководства
бороться с
проблемами
или даже
просто признать
нуждыпротребности
системыго
здравоохранения.[149]
Кроме
патентов,
есть ряд
факторов,
влияющих на цены
лекарственных
препаратов,
такие как тарифы
и прочие видыформы
прямого
налогообложения.[150] Может
показаться
нверным Жжалобываться
на влияниеоздействие
патентования
на цены кажутся
несколько
странными,
если при этом
игнорируют
игнорируя,
в то же времядругие
аспекты
государственной
политикические
программы
под
контролем той
или иной
страны,
которые
могут иметь
аналогичный
эффект. Важно,
поэтому,
чтобы
национальная
налоговая
система
содействовала
здравоохранению
точно
так жетак
же, как это
должна
делать система
патентования.
Чтобы
сЧтобы не
былонять
тревогу по
поводу
озабоченности
вопросами
введения
лекарств
против СПИДа,
ВОЗ в этом
году выработалапустила первое
руководство
попо использованиюпомощью
АРВ в условиях
бедной
обстановкенищеты,
выпустив списокперечень
изготовителейпроизводителей
и
препаратов
изделий (в
том числе
одиннадцать
АРВ),
отвечающих стандартам
качества ВОЗ,
как
поставщиковв
качестве
поставащиков
агентствам
ООН. В
текущий
списокТ
включеныекущий
перечень
включает
как изготовители
производителей
запатентованной
продукции,
так и тех,
кто
выпускает препараты-генерикисхожих
вариантов
препаратов,
в том числе, в
данный
момент, пока
что, две
индийские
компании. Кроме
того, ВОЗ
впервые
включила
двенадцать
АРВ для лечения
СПИДа (два
препарата
были в списке
и раньше для
лечения в
случаях передачи
болезни от
матери
ребенку) в
свой Перечень
важнейших
препаратов.[151]
При
определении
степени
доступностиопределяющих
доступность
медицинскихх
препаратов
много
дебатов
ведется по
поводуам
относительной
сравнительной
важности
патентования
и
других факторов.
Мы считаем,
что важно
важным
рассмотреть
все факторы,
не считая,
при этом, что
нужно идти нане
компромиссы
между
улучшением
системы ИС при
решении для
задач
здравоохранения
и
рассмотрением
вопросов
политики,
инфраструктуры
и ресурсов радидля
достижения
тех же целей.
Необходимо
двигаться впо
обоихм
направленияхм,
движениедвигаясь
пов
одному
из них не мешает
влияет
на
способность движениюгаться
по другому. Как
сказал оОдин
из
участников
нашей
конференции
сказал
следующее:
«
не
хотелось бы
бы, чтобы в
ходе дебатов Комиссияв
этом дебате
пришла к
заключению
{что речь
идет лишьон
весь} обпосвящен
инфраструктуре
и ресурсахм.
Такойэто
будет
ее выводзаключением
будет соответствоватьмне
кажется, что
у вас будет
заголовку о
бедных слоях
населения - »
нам не нужны
выводы о том,
что люди
бедные, это
мы и такпотому
что мы это
знаем. Мы
пытаемся
решить
проблемы, а
не сообщать им
о том, что они
бедные.[152]
Странам
необходимо
внедрить ряд
программ по улучшениюя
доступности
медицинских
препаратов. Критически
важны дДополнительные
средства на
улучшение
обслуживания,
механизмов доставкивведения
и
инфраструктуры
критически
важны. Другие
макроэкономические
программы
должны
соответствовать
здравоохранительным
задачам. На это
также
направлен и
режим ИС.
Странам
необходимо
обеспечить
такое
положение,
при котором
режим защиты
ИС не
противоречит
политике
в деле здравоохранения,ительным
программам, а
соответствуетя
и содействуютя
ейим.
ЗНАЧЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ПОЛИТИКИ В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ
Возмиожные
варианты государственнойнaциональной
политики
Контекст
Контекстом
наших
обсуждений значенияпоследствий
политики в
этой области
является
Декларация,
согласованная
на
Министерской
встрече ВТО в
Дохе в ноябре
2001 года (см.
врезку 2.1). Министры
пояснили, что
соглашение
ТРИПС не должно
препятствовать
дотвратить
принятиюе
странами мер
по охране
здоровья
своего
населениязащите
своего
здравоохранения
. Они
подчеркнули,
что в рамках
соглашения можно
принимать
решения об
принудительном
лицензировании
по
усмотрению
самих
стран-членов
организации. Более
того, можно
удовлетворять
внутренний
спрос за счет
параллельного
импорта
(который, с
юридической
точки зрения,
подчиняется
так
называемой
доктрине
«исчерпания
прав»).[153]
Они
признали наличие
особойые
проблемы стран,
которым с
недостаточныйм
производственныйv
потенциалом,
не способных
не позволяет
воспользоваться
принудительным
лицензированием,
и поручилипроинструктировали
Совету
ТРИПС до
конца года
найти
решение.
Страны-члены
также
согласились
позволить
наименее
развитым
странам не
внедрять, не применять
и нели использовать
правоприменительныхе
меры в
отношении
фармацевтических
изделий и защиты
испытательных
данных до 2016
года[154].
Совет ТРИПС
подтвердил
это решение 27
июня 2002 года. В то же
время Совет
утвердил
послабление
для НРС,
которым
теперь не
нужно будет
обеспечивать
исключительные
рыночные
права для
любых новых
лекарств в
период
отсутствия
патентной защиты.
Это
послабление,
утвержденное
Генеральным
советом ВТО,
должно быть
ежегодно
рассмотриватьсяено
на
министерской
конференциией
ВТО (или
Генеральным
советом в
период между
министерским
встречами) до
окончательного
его
истечения
срока его
действия.
Наши
рекомендации
основаны на
том, что для большинства
развивающихся
стран любые преимущества
от
разработки
новых видов
лечения
распространенных
в нихважных
для них
болезней в
лучшем
случае
скажутся
лишь в дальней
перспективе,
в то время
как дополнительные
расходы наот
внедрениея
патентной
системы
сиюминутные
и реальные. Поэтому
мМы,
таким образом,
решили
сосредоточиться
на мерах,
которые, в
рамках
системы ИС, до
минимума снизят
цену
на
лекарства, обеспечив,
в то же время, ихсодействуя
наличиею
таких
лекарств.
Какмы уже
упоминалосьи,
мы
не нашлинами
не было
найдено
доказательств
того, что
такие меры
снизят
стимулирование
научно-исследовательской
деятельности
по специфическим
болезням
развивающихся
стран здесь определяющим
фактором
является
спрос, а не
система ИС. Однако
мыМы,
однако,
понимаем, что
поскольку
это новая
область, то следуетнужно
продолжить
изучение
того,
насколько на
практике
внедрение
ТРИПС на
практике повлияет
на
стимулирование
научно-исследовательской
деятельности
и доступность
лекарств,
особенно в
дальней
перспективе.
Врезка
2.1
Министерская
декларация
ВТО, принятая,
в Дохе, по
вопросам
ТРИПС и
здравоохранения
Декларация
была принята
14 ноября 2001 года
1. Мы
признаемонимаем
серьезность
проблем
здравоохранения
во многих
развивающихся
и наименее
развитых
странах,
особенно
проблем
ВИЧ/СПИД,
туберкулеза,
малярии и
других эпидемий.
2. Мы
подчеркиваем
необходимость
того, чтобы
Соглашение
ВТО по
торговым
аспектам прав
на
интеллектуальную
собственность
(соглашение
ТРИПС)
явилось
частью
широкомасштабных
национальных
и
международных
шагов по
решению этих
проблем.
3. Мы
признаем, что
защита
интеллектуальной
собственности
важна для
разработки
новых
медицинских
препаратов.
Мы также признаем,
что
существуетонимаем
озабоченность
по
поводу ее влиянияэффектом
на цены.
4. Мы
согласны с
тем, что
соглашение
ТРИПС не должно
мешать
странам-членам
организации
принимать
меры по охране
здоровья
населениязащите
здравоохранения.
В
соответствии
с этим,
выражая
согласие с ТРИПС,
мы, в то же
время,
утверждаем,
что это соглашение
может и
должно быть
истолковано
и должно
примененояться
так, чтобы содействоватьпомочь
странам-членам
ВТО в
осуществлении
охраны
здоровья
населения,защищать
здравоохранение, и,
в частности,
поощрения
доступности
медицинских
препаратов
для всех.
В этой
связи, мы
подтверждаем
право стран-членов
ВТО
полностью
использовать
для этой цели
предоставленные
соглашением
ТРИПС
положения,
содержащие
элементы
гибкости.
5. В
соответствии
с этим и в
свете
вышеприведенного
пункта 4,
выражая
согласие с
положениями
ТРИПС, мы
признаем, что
эти элементы
гибкости
включают
следующее:
a)
При использовании
обычных
правил
истолкования
общественного
международного
законодательства
каждое
положение
соглашения
ТРИПС
необходимо
рассматривать
в свете выраженных
задач и целей
соглашения, в
частности,
его задач и
принципов.
b)
Каждая
страна-член
организации
вправе
принимать
решение о
принудительных
лицензиях и
свободна
определять,
на каких
основаниях
они
предоставляются.
c)
Каждая
страна-член
организации
вправе определять,
что
представляет
собой
национальное
чрезвычайное
положение и
другие чрезвычайные
обстоятельства,
сознавая,в
понимании
того, что
кризисная
ситуация в
здравоохранении,
в том числе
относящаяся
к ВИЧ/СПИД,
туберкулезу,
малярии и
другим
эпидемиям,
может
представлять
собой
национальное
чрезвычайное
положение и
другие
чрезвычайные
обстоятельства.
d)
Эффект
содержащихся
в соглашении
ТРИПС положений
об
исчерпании
прав на
интеллектуальную
собственность
сводится к
свободе
стран-членов
организации
беспрепятственно
создавать
собственный
режим такого исчерпания
на условиях
режима
наибольшего
благоприятствования
и
национальных
положений
Статей 3 и 4.
6. Мы
признаем, что
страны-члены
ВТО с недостаточным
производственным
потенциалом
в фармацевтической
отрасли или
без таковогонего
могут
испытывать
затруднения
с эффективным
использованием
принудительного
лицензирования
по
соглашению
ТРИПС. Мы
поручаем
Совету ТРИПС
быстро найти
решение этой
проблемы и
отчитаться
перед
Генеральным
Советом до
конца 2002 года.
7. Мы
подтверждаем
обязательство
развитых стран-членов
организации
обеспечить
поощрение
передачи
технологии
своими
предприятиями
и
учреждениями
наименее
развитым
странам-членам
в соответствии
со статьей 66.2.
Мы также
согласны с тем,
что наименее
развитые
страны-члены
организации
не обязаны, в
отношении
фармацевтических
изделий,
внедрять или
применять разделы
5 и 7 Части II
соглашения
ТРИПС или
применять
права по этим
разделам до 1
января 2016 года,
независимо от
права
наименее
развитых
стран
стремиться к
продлению
переходных
периодов по
Статье 66.1
соглашения
ТРИПС. Мы
поручаем
Совету ТРИПС
принять
необходимые
меры для
вступления
этого в силу
в соответствии
со Статьей 66.1
соглашения
ТРИПС.
Дифференцированное
ценообразование
Как мы
уже отмечали,
дифференцированное
ценообразование,
в принципе,
должно быть
экономически
рациональным
способом достижения
максимального
роста прибылейи
глобальных
компаний в
отношении
продукции,
сбываемой
как на низко- ,
так и
высокодоходных
рынках.[155]
Это также
должен быть
способ обеспечения
такого
положения,
при котором
более бедные
слои
населения
получают
менее дорогие
изделия.
Имеется
несколько
инициатив,
способствующих
глобальной
системе
дифференцированного
ценообразования. В
соответствии
с
вышесказанным,
существует
естмного
не связанных
с ПНИС
факторов,
влияющих на
цены и
наличие
медицинских
препаратов.
Существуют
два важных
фактора в
создании
системы
дифференцированного
ценообразования,
которая бы
позволила бы
низким
ценам в
развивающихся
странах сосуществовать
с более
высокими
ценами развитых
стран:
·
Рынки
с различными
уровнями цен
должны быть
сегментированы
так, чтобы
дешевые
медицинские
препараты не
смогли
оказаться на
более
дорогих
рынках, что означает
экспортно-импортный
контроль в отношении
таких
продуктов.
·
Там,
где решения о
ценообразовании
на дорогих
рынках
принимают в
рамках
правительственной
политики, их
нельзя
принимать со
ссылкойссылаясь
на
цены на
дешевых
рынках.
Второй
фактор не
связан с
соображениями
ИС,тем не
менее во
многих
развитых
странах он,
однако,
представляет
собой
политическую
проблему
из-за
существующей
разницы в
ценах на фармацевтическую
продукциюие
изделия
даже между
развитыми
странами, а
также ввиду
давления на
бюджеты со
стороны пациентов,
страховыхе
схемы и
государствао,
требующих
оплаты по
оплате
растущей
стоимости запатентованных
лекарств.
Инструменты
Осистемы
ИС,однако,
однако,
в том числе
параллельный
импорт и
принудительное
лицензирование,
могут,
вероятно, сыграть
существенную
роль в
поддержке
дифференцированного
ценообразования
и сегментации
рынка. С
целью
обеспечения эффективного
действия
системытакого
положения,
при котором система
дифференцированного
ценообразованиядействует
эффективно,
национальное
законодательство
развивающихся
стран должно
сохранить за
собойу
себя правительственное
право правительства
разрешиить
параллельный
импорт, а
также право
введенияи
вопросы
принудительного
лицензирования.
Нам
также
известно обо
всехМы
также знаем о
недавних
снижениях
цен и ряде
особых схем,
принятых
некоторымих
компаниямий,
иногда в
сотрудничестве
с
международными
агентствами,
по
обеспечению
намного более
дешевых или
вообще
бесплатных
лекарств, и
о совместной инфраструктуре
поддержки,
в
сотрудничестве
с местными
правительственными
и
неправительственными
организациями,
обеспечивающей
инфраструктуре
поддержки доставку
лечения
пациентуполучения
пациентами
всего
необходимого.
Такие скидки,
в целом,
относятся
лишь к
правительственным
и
неправительственным
организациям
и
организациям
по
оказанию помощи,
или
клибо
сотрудникам
частного
сектора, но
не к коммерческим
поставщикам
медицинских
препаратов.
Это,
разумеется,
желательный
вклад компаний
в дело
улучшения
доступа к
медицинским
препаратам в
развивающихся
странах.[156]
При решении
серьезных
здравоохранительных
проблем,
однако, нужны
устойчивые
решения на
более
широкой
основе. С
этой целью
следуетдля
чего нужно
продолжить
усилия по
осуществлению
эффективной
системы
дифференцированного
ценообразования.
Параллельный
импорт
В
принципе,
нежелательно
ограничивать
свободное
движение
изделий,
размещенных
на рынке тем
или иным
производителем.
Но на практикеа
и
исключительно
с целью
обеспечения такого
положения,
при котором
более дешевые
изделия
поставляются
лишь тем, кто
в них нуждается,
может
возникнуть
необходимость
отойти от
общего
принципа.
Отсюда
следует, что
важным элементом
создания
системы
дифференцированного
ценообразования
является необходимость
сегментации
рынка для
предотвращения
подрыва
более
дорогостоящей
продукции за
счет дешевых
изделий. С
этой целью,
важно, чтобы
развитые
страны
наладили
эффективные
механизмы
предотвращения
параллельного
импорта
медицинских
препаратов.
Так, в общих
чертах,
обстоит дело
в США и ЕС, но,
по всей
видимости, не
в Японии.[157]
Развитые
страны
должны
соблюдать и
укреплять
законодательные
режимы для
предотвращения
импорта
дешевых
фармацевтических
изделий из
развивающихся
стран.
Для
укрепления
сегментации
рынков,
однако,
желательно,
чтобы
развивающиеся
страны также
предотвращали
экспорт в
развитые
страны
лекарств, полученных
имиереданных
им в рамках
схемы
дифференцированного
ценообразования.
Особенноо
важно
избежать
положения,
при котором
медицинские
препараты не
попадают к
пациентам,
для которых они
предназначаются.
Но, но
сознавая
ограниченные
правоприменительные
возможности развивающихся
стран, основная
нагрузка
сегментации
развитых/развивающихся
стран должна
будет лечь на
развитые
страны.
Развивающиеся
страны не
должны
пренебрегать
потенциальными
источниками
дешевого
импорта из
других
развивающихся
или развитых
стран.
Чтобы - в
соответствии
со положениями
ТРИПС -
эффективно
осуществлять
меры
поощрения
конкуренции,
необходимо допускатьпозволять
параллельный
импорт пори
исчерпании
права
патентообладателя
в зарубежной
стране.ых
странах.
Поскольку
ТРИПС дает
странам
право самим разрабатывать
положения о
режимах
исчерпания
прав (что
было
подтверждено
в Дохе), развивающиеся
страны в
своих
законодательствах
должны
стараться вводитьиметь
положения,
поощряющие
параллельный
импорт.
Принудительное
лицензирование
В
соответствии
с
вышесказанным,
результатом
внедрения
ТРИПС явится
уменьшение
поставок препаратов-генериковсхожих
препарат,
копирующих запатентованные
изделия, чем
устранится
важный элемент
снижения цен
на запатентованную
продукцию в
развивающихся
странах. При
наличии,
однако,
эффективного
законодательства
и процедур
принудительного
лицензирования,
последние
могут сыграть
важную роль в
проведении
конкурентной
политики
ПНИС в такой
новой обстановке. Мы не
считаем
принудительное
лицензирование
панацеей от
всех бед, рассматривая
его лишь в
качестве
подстраховки
на случай
злоупотребления
системой ИС.
Хотя -
при условии
соблюдения
определенных
условий и
процедур -
ТРИПС
разрешает
принудительное
лицензирование
(как было
разъяснено в
Декларации,
принятой в
Дохе),
развивающиеся
страны имею
пока не воспользовались.
Парадоксально,
но, по
ряду причин
принудительным
лицензированием
больше всего
пользуются в
развитых
странах (и не
только в
отношении фармацевтических
изделий), в
том числе в
рамках
антитрестового
законодательства
в США. В
Канаде
широко
пользовались
принудительным
лицензированием
в
фармацевтике
с 1969 до конца 1980-х
годов. Это,
например,
привело к
тому, что в 1982
году цены на
лицензированные
лекарства
там были на 47%
ниже, чем в
США.[158] В
Великобритании
также
использовали
принудительное
лицензирование
до 1970-х годов, в
том числе по
ряду важныхй
медицинскихлекарственных
препаратов,
таких как
либриум и
валиум. В
наше время,
министр
здравоохранения
и
социального
обеспечения
(ЗСО) США в 2001
году, до
переговоров
с фирмой Bayer
(патентообладателем),
публично
рассматривал
возможность
приобретения
схожего с Ciproлекарственного
препарата
для борьбы с
последствиями
возможного
биологического
нападения с
использование м
микроорганизма
сибирской
язвы, хотя в
конце концов было
достигнуто
соглашение с
этой фирмой
было
достигнуто
соглашение.[159]
Развивающиеся
страны не
пользовались
этой
системой
по ряду
причин. Во-первых,
она требует
административной
и правовой
инфраструктуры,
отсутствующих
в развивающихся
странах.
Во-вторых,
развивающиеся
страны
опасались
угрозы
двусторонних
или
многосторонних
санкций.
В-третьих, принудительное
лицензирование
должно предназначатьсябыть
«в основном
для
внутреннего
рынка».
В-четвертых,
слово
«принудительное»
относится к законному
ограничению,
возлагаемому
правительством
на патентообладателя.
Сам
производитель
лицензированного
лекарственного
препарата
производит
его
добровольно
и для получения
прибыли (во
всяком
случае припо
меньшей мере
в случае предоставлении
лицензиирования
частной фирмеы).
Таким
образом,
производитель
лицензированного
препарата
должен быть в
состоянии, пользуясь
обратным
проектированием,
наладить
производство
лекарственного
препарата
без помощи
патентообладателя.
Он должен
быть в
состоянии
рассчитывать
на
достаточно
большой
рынок, оправдывающий
затраты на
инвестиции,
производство
и адекватное
вознаграждение
для патентообладателя.
При
невыполнении
этих условий
угроза принудительного
лицензирования
становится
нереальной.
Угроза
принудительного
лицензирования
успешно
использовалась
Бразилией в
рамках
национальной
программы
борьбы с
венерическими
заболеваниями/СПИДом
(см. врезку 2.2).
Благодаря
своему
научно-исследовательскому
потенциалу и
развитому
государственному
производственному
сектору, в
своих
переговорах
с
фармацевтическими
компаниями
Бразилия
смогла
воспользоваться
угрозой
принудительного
лицензирования.
Это включало
способность
использовать
оценку
собственных производственных
затрат при
принудительном
лицензировании
во время
переговоров
с
патентообладателями
о ценах. В
положении
Бразилии,
однако, находятся
лишьесть
немногие
развивающиеся
страны, так
что в большинстве
развивающихся
стран такая
угроза не
будет рассматриваться
серьезно,.
если они не
смогут
полагаться
на импорт из стран
с
соответствующими
возможностями.
Врезка 2.2
Бразильская
национальная
программа
борьбы с
венерическими
заболеваниями/СПИДом
(NSAP)
Основная
цель
Бразильской
национальной
программы
борьбы с
венерическими
заболеваниями/СПИДом
(NSAP)
бесплатно
обеспечитьдля
всех
нуждающихся
лекарствами
против
ВИЧ/СПИД
через
национальную
систему
здравоохранения.
К
выполнению
программы NSAP приступилиначалась
в начале 1990-х
годов, а
лечение
пациентов с
ВИЧ/СПИД
стало
обязательным
по
закону в 1996
году. С
помощью
неправительственных
организаций, занимающихсяпосвященных
ВИЧ/СПИД,
была
произведена
существенная
реорганизация
национального
здравоохранения
в делевопросах
распределения
медицинскихлекарственных
препаратов и
лечения СПИДа.
В стране
теперь
имеются
сотни
центров распределения
медицинскихлекарственных
препаратов.
NSAP
поставляет
антиретровирусные
лекарства
примерно 105000 из
600000 пациентов с
ВИЧ/СПИДом
в Бразилии.
Число
случаев ВИЧ
было снижено,
а смертность
среди жертв
СПИДа сократиласьупала
до половины,
по сравнению
с числом,
предсказанным
наполовину,
по сравнению
с
предсказываемой
в в начале
1990-х годов.
Госпитализация
с 1996 года упала
на 80%.
Хотя NSAP
обходится
дорого
(годовой
бюджет программы
порядка 500 млн
долларов США,
при
общемвесь
бюджете
здравоохранения
около 10 млрд
долларов США),
снижение
затрат за
счет
снижения
случаев заболевания,
госпитализации
и других
эффектов
ВИЧ/СПИД,
помогает
балансировать
бюджет. По
оценкам
бразильского
министерства
здравоохранения
в 2001 году окончательные
затраты на NSAP, с учетом
вышеуказанного
снижения,
оказались
отрицательными
(чистая
экономия в 50
млн долларов
США).[160]
В
рамках этой
программы,
300 млн
долларов США уходитпошло
на лекарства
против СПИДа.
Затраты на
покупку
антиретровирусных
лекарств
недавно сократилисьупали,
поскольку
министерство
здравоохранения/NSAP наладили
у
себя производство
в своем общественном
секторе
создали национальные
лаборатории
и инструменты
переговоров
с
транснациональными
компаниями,
включая
угрозу принудительного
лицензирования.
Основным государственным
производителем
и разработчиком
технологии
по
обеспечению
страны дешевыми
антиретровирусными
лекарствами
является
институт Far-Manguinhos
(часть фонда Oswaldo Cruz - FIOCRUZ). Он
производит 7
из 15
медицинских
препаратов,
используемых
в
Бразилии в
качестве
антиретровирусных
лекарств. Ни
одно из них
не
запатентовано
в Бразилии.
Цены, при
местном
производстве,
упали, в
среднем,
на 72.5% с 1996 по 2000
годы. В 1999 году Бразилия
производила
47%
антиретровирусных
лекарств, на
которые
приходилось
лишь 19% всех
затрат. Таким
образом, 81%
затрат
приходилосьсь
на закупкипокупку
антиретровирусных
лекарств у
транснациональных
компаний.
Поскольку
Far-Manguinhos в
состоянии
осуществлять
обратное
проектирование
запатентованных
лекарств и
может
реалистично оценивать
свои
производственные
затраты,
министерство
здравоохранения
находится в
сильной переговорной
позиции,
договариваясь с
иностранными
производителями
при
переговорах
о снижении
цен на фоне
реальной
угрозыиностранных
производителей, с
учетом также
и угрозы
принудительного
лицензирования.
В 2001году министр
здравоохранения
воспользовался
таким
подходом при
переговорах
с фирмами Roche и Merck,
добившись
40-70%-нойго
скидкинижения
цен на
лекарства Nelfinavir и Efavirenz.
Бразильскую
программу
широко приветствуют,
выдвигая
ееют в
качестве
возможной
модели для
других стран,
но нельзя
забывать, что
стоимость программыее
составляет
около 5000
долларов США
в год на пациента,
800
долларов США
на каждого
зараженного
вирусом ВИЧ,
или же 3
доллара США
на каждого
жителя Бразилии.
Таким
образом,
Бразилия сделала
приоритетной
задачуезировала
леченияе
ВИЧ/СПИДа.
Бразилия
может себе
это
позволить, являясьпотому
что она
сравнительно
богатойая
развивающейсяаяся
странойа,
со
сравнительно
малым числом
случаев заболеваний
вирусом и
потому что в
ней
сравнительно
мало случаев
ВИЧ, по
сравнению с
численностью
населения.
Более того, обладание
техническимй
ноу-хау
позволяет
министерству
здравоохранения
эффективно
договариваться
о снижении
цен. В
соответствии
с
вышесказанным,
такие
инвестиции
окупаются за
счет
снижения случаевы
заболевания
и смертности.
Но без
внешней помощи
более
бедные
страны с
более
высоким
процентом
случаев
заболевания
вирусом ВИЧ не
в
состоянии могут
позволить
себе произвести
начальныепойти
на начальные
инвестиции,
связанные с
такого типа
программами,
несмотря на
более высокую
заболеваемость
ВИЧ. В таких
странах
слабый
технологический
потенциал
ограничивает
и предложeнное в Дохе принудительное
лицензирование.
Государственные
меры по
принудительному
лицензированию
Серьезным
барьером на
пути
принудительного
лицензирования
в
развивающихся
странах
является
отсутствие прямыхнепосредственных
законодательных
и
административных
процедур по
внедрению
такого
лицензирования.
Поскольку
правовые
системы
большинства
развивающихся
стран
перегружены,
то лучше
всего принятьять
соответствующее
законодательство
по созданию
квазиюридической
независимой
административной
системы
осуществления
принудительного
лицензирования,
включающей следующие
основные
элементы:
·
прямыенепосредственные,
прозрачные и
оперативные
процедуры
·
процедуры
обжалования
без задержки
исполнения
условий
лицензии
·
законодательство,
полностью
использующее
гибкость
ТРИПС при
определении
оснований
для
принудительного
лицензирования,
а также для
некоммерческого
использования
правительством,
в том числе
экспортное
производство
(см. ниже)
·
четкие,
легкие в
применении и
прозрачые указания
по ставкам
лицензионных
платежей (которые
могут быть
разными).
Можно
многому
научиться на
опыте
развитых
стран, в
особенности
Канады, в
которой, по
всей
видимостивидимому,
была
внедрена
наиболее
полная такая
программа. В
Канаде была
установлена
почти всеобщая
ставка
лицензионных
платежей в
размере 4%, вс
отношении
которой был
установлен
важный судебный
прецедент. Практика
в СШАпрактика
показывает
значительные
колебания от
очень низких
до довольно
высоких счтавок,
в
зависимости
от судебных
решений.
Развивающимся
странам, при установлениизадании
ставок
лицензионных
платежей, нужно
будетнужно
будет
выработать
необходимые
правила и
процедуры,
соответствующие
собственным
обстоятельствам,
но опыт
других стран
говорит о том,
что такие
лицензионные
платежи не
должны быть
чересчур
высокими.
Развивающимся
странам
также
необходимо
рассмотреть
возможность
принятия, в
этом
контексте,
сильных
положений о
правительственном
и некоммерческом
использовании,
отличающемся
от
принудительного
лицензирования,
но с аналогичным
эффектом на
общественное
здравоохранение.
Здесь,
опять-таки,
многие
развитые (и
развивающиеся)
страны имеют
в своих
законодательствах
такие
положения. В
странах
британского
ссодружества они
основаны на
британском
Акте от 1883 года,
сохраненного
в
современном
законодательстве.[161]
Эти права носят
довольнодовольно
обширный
характере,
без указания
конкретных
обстоятельств,
в которых они
могут
использоваться. Например,
в Новой
Зеландии:
«
любое
правительственное
ведомство
вправе для
пользы
Короны изготовлять,
использовать
и
распространять
любое запатентованное
изобретение
для пользы
Короны, и
любая
деятельностьые
меры,
осуществленнаяые
в силу
данного
подпункта, не
считаеются
нарушением
соответствующего
патента.[162]
Развивающиеся
страны
должны
разработать
у себя
практичные
законодательные
нормы и
процедуры по
внедрению
принудительного
лицензирования,
обеспечив
соответствующие
положения по
правительственному
использованию.
Принудительное
лицензирование
в странах с
недостаточным
производственным
потенциалом
Шестым
пунктом
Декларации,
принятой в
Дохе, Совет у ТРИПС
поручается
инструктируется
оперативно
разработать
решение
проблемы, с
которой
сталкиваются
некоторые
страны, не
имеющие
достаточных
фармацевтических
производственных
мощностейвозможностей.
Проблема
сформулирована
как неспособностьвозможность
таких стран
воспользоваться
принудительным
лицензированием
находящегося
на территории
страны
производителя
для получения
необходимых
фармацевтических
изделий.
Обычно
пользуются
необходимым
принудительным
лицензированием,
когда страна уполномачивает
посредством
механизма
принудительного
лицензирования
местного
производителя
начать
выпускать на
своей
территории
необходимые
препараты, или
же обязывает
импортера
ввезти этот
продукт из-за
рубежа.можно
также
импортировать
их из другой
страны. Для
упомянутых стран трудность
заключается проблема
в том, что к
местному
производителю
они обратиться
не могут, и
вынуждены полагаться
исключительно
на
производство
в другой
стране.
Мы
согласны с
тем, что
важно
разрабатывать
правильноенужное
толкование
или поправку
к ТРИПС, с
учетом
долгосрочного
распространения
патентной
защиты на
страны, которые
в настоящий
момент
выпускают и
экспортируют
схожие препараты-генерики,
копирующие запатентованные
лекарства. Здесь в Здесь
необходимо
вырабатывать
благоприятные
для конкуренции
решения по
рынку
патентованных
медицинских
препаратов в развивающихся
странах, необходимо
выработать
проконкурентные
решения по
запатентованным
лекарствам на
период после
полного
вступления
ТРИПС в силу, -
решения,
которыые бы
позволилии
бы быстро и
стабильно закупатьполучать
лекарства по
минимально
возможным
ценам. Этои
относится
применимо
как к
непосредственной
заготовке запатентованных
средствлекарств
в случаях,
когда
имеется ряд
альтернативных
лечений, так
и к загкупкамотовке,
относящимся
к по принудительному
лицензированию.
Принудительное
лицензирование
следуетнужно
рассматривать
лишь в
качестве
средства, целью
же в
развивающихся
странах
является содействие
получению
лекарств спо
минимально
возможными
затратамиценам,
способствуя
их всеобщей
доступности. Единственная
задачаОобязательноего
лицензированиея
имеет в
этом
контексте смысл
лишь если оно
помогает
помочь с
достижениюем
этой цели. Как
уже
отмечалось,
помимо В
соответствии
с
вышеуказанным,
отвлекаясь
от
правового и
административного
аспектов,
принудительное
лицензирование
лишь
тогда будет
эффективным
лишь тогда,
когда лицензированный
производитель
видитиме
возможность
получить
разумный
возврат на
свои
инвестиции, в
то же время
поставляя лекарства
по
существенно
более низким
ценам, чем цены
патентообладателя
(либо
лицензированного
им лица).
В
настоящее
время , в
частности,особенно
есть
несколько
стран страны
с достаточно
большим существеннымвнутренним
рынком,
которые
могут дешево
выпускать
копии
лекарств, но
после 2005 года
делать это
будет
труднее. УДля
производителей
из этих стран
больше не будет
стимула идти
на обратное
проектирование
новых запатентованных
лекарств и
предпринимать
другие шаги,
необходимые
для
производства
и сбыта (в том
числе получать
всеение
необходимыех
разрешенияй),
потому что
внутренний
рынок будет
для них
закрыт. Таким
образом,
существующие
ныне
избыточныесейчас
поставкисхожих
препаратов-генериков
или лекарств,
заменяющих запатентованные
средствалекарства,
постепенно
исчезнут. , иП потенциальныме
принудительным
лицензиатам
придется
назначать
цены, более
близкие к ценам, реальноценам,
отражающим полную
стоимостьвсю
экономику
затрат
(включая
начальные и
производственные
затраты), в
отличие от нынешних
принциповсовременной
поставки схожих «сготовых
с полкии»
препаратов-генериков,
сбываемых препаратов,
по ценам,
отражающим
частичную
амортизацию
затрат за
счет
местного
рынка. Более
того, если требуемые
необходимые
инвестиции
появляются
лишь в силу
наличия
принудительных
лицензий, то
это неизбежнообязательно
приведет к
длительным
задержкам в
доставкеперед
тем, как
лекарствадостигнут
пациентамов.[163]
Кроме того,
имеются
указания на
то, что по
самой своей
природе
обратное
проектирование
новых
медицинских
препаратов в биофармацевтике
сложнее, чем
при работе с обычными
химическими
процессами.
Это заставляет
предположить,говорит
о том, что без
принятиябез
особых мер
даже в
немногих
технически
развитых
развивающихся
странах
возможности
принудительного
лицензирования,
в качестве
средства
снижения цен,
станут более
ограниченными,
чем в
настоящее
время. ДляВ
большинствае
же стран,
единственным
реальным
поставщиком станетможет
быть
патентообладатель
(либо
лицензированное
им лицо).
ММы
поэтому,
поэтому,
видим
рассмотренные
в Дохе
проблемы не
только как
правовые, но
и не в
меньшей
степени -
как
экономическуе
проблему.
Совет ТРИПС, возможно,может
быть и
выработает
какое-то
квазиправовое
решение, но
этого будет
недостаточно
для решения
упомянутой
проблемы.
Такое
решение, в
частности,
будет менее
эффективным
при большем
числе ограничений
на положения
при наличии в
положениях
принудительного
лицензирования.
разного рода
ограничений.
Ограничения
снижают
вероятность
использования
такого лицензирования
в качестве
эффективного
переговорного
средства,
когда
развивающиеся
страны
договариваются
с
патентообладателями
о ценах. Онобыть
эффективно
лишь тогда,
когда вариантальтернатива
принудительного
лицензирования
является
жизнеспособным
экономическим
деловым
предложениемпредложением.
Правовые
аспекты
В данном
разделе мы
обсудим ряд
предложений,
выдвинутых
странами и
группами
стран, по
резолюции
ВТО в
отношении
проблемы,
затронутой в
пункте 6
Декларации,
принятой в
Дохе. Она
связана с
сущностью
Статьи 28 (предоставленные
права),
Статьи 30
(исключения к
предоставленным
правам) и
Статьи 31(f) ТРИПС,
причем
Статья 31
занимается
«прочим использованием
без
полномочий
со стороны правообладателя».
Статья 31(f) предусматривает,
что обеспечивает
принудительное
лицензирование
должно относиться
к лицензии,
которое
должно быть
«главным
образомв
основном
для поставок
на
внутренний
рынок
страны-члена
организации,
утверждающей
такоеполномоченной
для такого
использованиея».
Страны
с
недостаточным
либо нулевым
производственным
потенциаломбез
него не
могут,
следовательно,
выдать принудительную
лицензию местному
производителю
илилибо
кому-тото
за границей,
посколькуому
что
патентование
территориально.
В настоящее
время такие
страныони
могут
предоставить
принудительную
лицензию
импортeру,
чей
поставщик
генериковкоторый
производит
ипх в
странах, где такоеолучает
свои
поставки за
счет схожих
препаратов,
произведенных
в странах,
где
изделие не запатентовано.
После 2005 года
указанного
варианта в
отношении
лекарств,
запатентованных
в стране
поставщика,
больше не
будет.
Следствием
данного
положения
будет практическая
бесполезность
принудительного
лицензирования
в отношении
стран, которые
больше всего
в нем
нуждаются, то
есть самых
бедных стран.
При
ограниченном
внутреннем
производственном
потенциалеони
не смогут в
таких
странах нет
кандидатов,
которые
пожелали
бы
воспользоваться
положением,
предусмотренным
принудительным
лицензированиемтакими
положениями,
что, разумеетсяочевидно,
неудовлетворительно,
и
Декларация,
принятая в
Дохе, правильно
признала, что
здесь
необходимо
быстро найти
соответствующее
решениетакой
проблемы.
При
истолковании
затронутых
Декларацией
в Дохе
вопросов имеется
несколько
проблематичных
моментов,
которых мыЕсть
несколько
проблем
истолкования
затронутых
Декларацией
в Дохе
вопросов, некоторые
из которых мы
здесь
коснемся
вкратцерассмотрим.
В Декларации
говорится о
том, что
страны вправе
определять,
на каких
основаниях
предоставлять
принудительные
лицензии
(пункт 5b), и
вправе
определять,
что представляют
собой
«национальные
критические
и другие
чрезчвычайные
обстоятельства»
(пункт 5c).
Последние
положения
отражают
упрощение процедур
Статьи 31(b) ТРИПС при
таких
обстоятельствах.
Таким образом,
шестой пункт
относится к
процедурам
принудительного
лицензирования
в фармацевтической
отрасли,
необходимым
для решения
«здравоохранительных
проблем
особенно
связанных с
ВИЧ/СПИД,
туберкулезом,
малярией
и
другими
эпидемиями»
(пункт 1).[164] Этот
пунктОн
не относится,
как иногда
полагают, к
принудительному
лицензированию
лишь в
условиях
чрезвычайных
обстоятельств,
и не ограничен
каким-то
видом
болезни.
Необходимо
также
пояснить,
какие страны
относятся к
странам с
недостаточным
или нулевым
производственным
потенциаломбез
него. Здесь,
опять-таки, как
нам
кажется, нучто
нужна
экономическая
интерпретация.
Если производство
необходимых
медицинских
препаратов технически
возможно, но
обходится
крайне дорого,
то не имеет
смысла
выдавать
внутренние
принудительные
лицензии.
Если задача доступность
медицинских
препаратов
соответствующего
качества в требуемыхнужных
количествах,
то решение ееее
должно обеспечить
их производстводать
возможность
производить
их
наиболее
экономичным
способом,
будь-то
внутри
страны или за
ее
пределамирубежом.
Развивающиеся
страны, в
целом,
предпочитают
истолкование
«производственного
потенциала» с
учетом
экономических
критериев (например,
дает ли такой
потенциал
возможность
экономичного
производства
в
определенных
обстоятельствах)
с
упором на
способность
страны определятьрешать
о критерииях
на
основев
зависимости
от
конкретного
изделия.
Развитые
страны, зас
единственным
исключением,
предлагают,
чтобы
определение
критериев не
включало
конкретизации.[165]
Поскольку
Декларация
также
разрешает НРС
не
патентовать
фармацевтических
изделий до 2016
года, тото
страны,
пользующиеся
этим
положением,
не смогут
выдавать
принудительные
лицензии, как
не смогут их
выдавать и
страны, где
нет патента.
В настоящее
время такие
страны могут ввозитьимпортировать
более
дешевые
поставки из
других стран
без
патентования
соответствующей
продукции, но
эта ситуация
опять-таки
изменится после
2005 года. Таким
образом, шестой
пункт, хоть в
нем особо
оговаривается ссылаясь
на
принудительное
лицензирование,
явно предназначен
для решения
более
широкого круга
вопросов
наличия и
доступности
медицинских
препаратов,
особенно в
развивающихся
и
наименее
развитых
странах.
Декларация
не указывает,
какие страны
могут действовать
в качествебыть
поставщиковами
в для стран,
о которых
идет речьрассматриваемые
страны. Для
того, чтобы
максимально
увеличить
конкуренцию
и достичь
наинизшихе
возможныхе
цены,
логичным
рыночным
решением было
быудет
не вводить
никаких
ограничений
на то, какие
страны-члены
ВТО могут
быть такими
поставщиками.
По тем же
соображениям,
страны , желающие
иметь
лицензию,
должны, по
логике вещей,
искать
наиболее
конкурентоспособного
принудительного
лицензиата,
где бы тот не
находился.
Развивающиеся
страны предпочитают
иметь
возможность
импорта из любой страны.
Одна
развитая
страна предпочитает
возможность
импорта из
развитых
стран, но ЕвросоюзС
не имеет
определенной
точки зрения,
а США предпочитаюет
поставки
лишь из развивающихся
стран, как
предпочитает
их и фармацевтическая
промышленность,
работающая
на основе
научных
исследований.о-исследовательской
деятельности.
По проблеме,
упомянутой в
пункте 6
Декларации,
было
выдвинуто
пять
основных
решений, которые
мы здесь все
рассмотрим.
Поправка к
Статье 31
ТРИПС. Статьюя
31(f) можно было
бы удалить,
однако это
может быть
истолковано
как
изменение
смысла
соглашения
по принудительному
лицензированию,
кроме случаяв
здравоохранительных
проблем.
Альтернатива
поправка к
статье, где
явно будет
указано
исключение,
касающееся
ограничения
в Статье 31(f) по
принудительному
лицензированию,
необходимому
для решения
предусмотренных
Декларацией
здравоохранительных
проблем. На
это уйдет
очень много
времени, так
как
потребуется
ратификация
всеми
правительствами.
Промежуточным
или
временным
решением по
типу декларации
о намерениях,
с временным
отказом от прав
или
мораторием
на решение
споров, можно
закрытьпокрыть
период до
ратификации
поправки,
однако,
многиео
страны, как
развитые, так
и
развивающиеся,
могут вообще
не захотеть заново
«открывать»
соглашение
ТРИПС, не
желая
рисковать тем,
чтоиз-за
риска того,
ряд стран могут
пожелать могут
пожелать
начать
передоговориться
и по
другимх
аспектах
соглашения. Предполагая,
что решение
будет найденоВ
предположении
нахождения
решения,
потенциальным
странам-экспортерам
придетсянужно
будет
изъять
«преимущественный»
момент из
своего
законодательства
и
удостовериться
в том, что
основания
для
принудительного
лицензирования
соответствуют
предусмотренным
Декларацией. На
последнем
этапе надо
будет
прибегнуть к
принудительным
лицензиям с
оплатой как в
импортирующей,
так и в экспортирующей
стране, если
в обеоих
существует
патент.
Экспортирующая
страна
должна будетбыть
в любом
случае быть
готова к
выдаче принудительной
лицензии радидля
пользы
импортирующей
страны.
Развивающиеся
страны
предлагали
ряд вариантов
решения
проблемы,
включая
пересмотр
Статьи 31 илилибо
изъятие
Статьи 31(f) для того,
чтобы Статья
31(f) не
распространялась
на законы,
меры и административные
шаги, включая
принудительные
лицензии,
принятые для
защиты
здравоохранения
и, в
частности, для обеспечениятакого
доступных
фармацевтических
изделий. Другие
развивающиеся
страны
отмечали, что
по Статье 31(f)
возникнет
необходимость
в принудительных
лицензиях
как в
импортирующей,
так и
экспортирующей
стране, что
представит административные
сложности. ЕС
предпочитает
специфическую
вышеописанную
поправку к
Статье 31(f). США
предпочитаюет
обойтись без
поправки к 31(f),
предлагая
для
достижения
того же
результата
ввести
мораториум
на процедуры
решения
споров.
Истолкование
Статьи 30.
Статья 30
обеспечивает
ограниченные
исключения
из патентных
прав, которые
не затрудняют
нормального
использования
патента.
Согласно
этому
предложению,
нет необходимости
ни в
поправках к
ТРИПС, ни в
принудительном
лицензировании
в
экспортирующей
стране.
Утверждается,
что одним из
преимуществ
такого
решения
будет
разрешение
экспорта
соответствующих
медицинских
препаратов в
страны без
патента. Все что
для этого, по-видимому,
потребуется, будет
будет
«авторитетное
истолкование»,
по Статье IX
соглашения
ВТО, принятое
тремя
четвертями
стран-членов
ВТО. В нем
будет
пояснена законность
исключения
из патентных
прав, разрешающегое
экспорт в
предусмотренных
Декларацией
обстоятельствах.
Национальное
законодательство
страны-экспортера
должно будет
быть изменено
включением в
него
указанного
исключения. В
связи с предлагаемым
решением
возникает
вопрос о том,
будет ли
«исключение
Дохи»
совместимым
с условиями
Статьи 30.
Истолкование
упомянутой
статьи в
недавнем
документе Комиссии
по
урегулированию
споров[166]
предусматривает
узкое
истолкование
«ограниченных
исключений».
В таком
контексте была
подтверждена
правомочностьзащитили
канадскихе
исключенийя,
для целей
получения
необходимых
разрешений,
при
рассмотрении
вопросов
раннего начала
производства
потенциальными
конкурентаминами.
Можно,
правда,
сказать, что
предлагаемое
здесь
исключение
«ограничено»
конкретными обстоятельствами,
определенными
в Декларации,
а также, что,
при дешевом
экспорте, оно
не содержит
«неразумного
противоречия»
с обычным
использованием
патента, при
условии
защиты
«законных
интересов»
патентообладателя
(например,
предотвратив
перенаправление
лекарств на
другие
рынки). Более
того,
законные
интересы
третьих
сторон (людей,
страдающих
от болезней в
развивающихся
странах)
необходимо
будет
противопоставить
соответствующим
интересам
патентообладателя.
В
большинстве
случаев,
однако, весьма
отличныеочень
различные
по сравнению
с Канадой -
обстоятельства
этого случая
означают, что
прецедент
ВТО найдет
ограниченное
применение.
Некоторые,
особенно
развивающиеся
страны, отдают
особое
предпочтениепредпочитают
решениюе
на основе
Статьи 30, отмечаязаметив,
что она
решает
проблему
двойного вознаграждения
по
Статьеи
31, устраняя
необходимость
принудительной
лицензии в
стране-экспортере.
Они считают,
что
административная
нагрузка, при
этом, будет
наименьшей.
Необходимо
также тотметить,
что, по
сравнению с
другими
вариантами,
активные
неправительственные
организации
предпочитают
вариант
Статьи 30.
Мораторий
или отказ от
прав. Альтернативным
предложением
является
предложение
о моратории
или отказе от
прав в
отношении
экспорта «в
условиях Дохи».
Сторонники
такого
подхода
утверждают, что
отказ от прав
является
самым
быстрым решением,
отмечая, что
он сможет
обеспечить
правовую уверенность,
а также
позволит
избежать
необходимости
поправки или
авторитетного
истолкования
соглашения
ТРИПС.
Условия для отказа
от
прав можно
изложить
заранее, с
определением
соответствующих
обстоятельств.
Здесь, очевидно,
возникнет
необходимость
очень четкого
недвусмысленного
изложения,
удовлетворяющего
все
страны-члены
ВТО. Такой попытки
пока предпринято
не было, и вполне
возможно, что,
на
переговорахво
время
переговоров
о критериях,
ясность неизбежнопременно
станет
жертвой
компромиссаов.
Министерский
совет ВТО
должен будет
согласовать
критерии, по
которым
странам-членам
можно будет,
в виде
исключения,
не соблюдать
положений
соглашения
ТРИПС. Как в
случае
моратория,
так и отказа
от прав, однако,
заинтересованные
стороны
могут только
прибегнуть
к защите по
Соглашению только
если
национальное
законодательство
было
изменено
введением
исключения к
требованию 31(f).[167]
Если же национальное
законодательство
не изменено,
патентообладатель
все равно
может искать
защиту в
национальных
судах,
несмотря на факт
действияиспользование
отказаа
от прав или
мораторияя
ВТО.
Необходимо
также
помнить, что,
в случае
сроков,
превышающих
один год,
отказ от прав
требует
регулярного
пересмотра его
министерской
конференцией
и/или Генеральным
советом.
ЕвросоюзС
указывает
на тоал, что
отказ от прав
(или
мораторий)
может быть
необходим на
то время, пока
согласовываетсяют
предложeннаяую
им поправкау
к 31(f).
Некоторые
развивающиеся
страны заявилисказали,
что отказ от
прав (или
мораторий) не
дает
постоянного
юридически
предсказуемого
решения.противоположность
этому, США
же
утверждаютсказали,
что отказ от
прав или
мораторий с
большей вероятностью
позволит
достичь
быстрого,е
практичного,е
прозрачного,е
постоянногое
и юридически
предсказуемогое
решенияе.
Насколько мы
понимаем,
фармацевтическая
промышленность
также
поддерживает
этовида
предложение.
Неподлежимость
рассмотрению
в судебном порядке. УПредложенный
вариант о
неподлежимости
рассмотрения в
судебном
порядке мог
бы решить казанный
вариант
можетпочти
все, что
планируется достичьдостигнуто
с помощьюподхода
Статьи 30, но
иным
способом. Этот
вариант
действовал
быОн будет
действовать
аналогично
положению
ТРИПС об
исчерпании
прав (пункт
шестой
ТРИПС). С
помощью
авторитетного
истолкования
или поправки
к Соглашению,
можно будет
решить не
пользоваться
урегулированием
споров по
ТРИПС в
отношении
экспорта,
предусмотренного
Декларацией.
Неясно,
однако, как
именно
реализовать
такое
предложение.
Экспорт
из
страныстраной
с
принудительным
лицензированием.
Последний
вариант, вне
рамок ВТО,
заключается
в том, чтобы
страны,
способные на
обратное
проектирование
и имеющие
производственные
возможности
и большой
внутренний рынок
соответствующихнеобходимых
медицинских
препаратов,
смоглиут
пойти на
принудительное
лицензирование
в
соответствии
с собственным
законодательством.
В этом
случае, часть
произведеннойго
продукции можноет
было быть
предложитьена
в качестве
экспорта
нуждающимся
странам (при
необходимости,
по
принудительной
импортной
лицензииесли
необходимо),
не нарушая
этим Статьи 31(f).
Принудительные
лицензии
можно также
предоставить
для борьбы с
антиконкурентной
практикой
(Статья 31(k)), причем
в этом случае
экспортные
ограничения становятся
неприменимыми
экспортные
ограничения.
Однако такой
вариант зависит
от наличия
законных
оснований
для принудительного
лицензирования
в поставляющей
стране, от ее
большого
рынка, в
котором
экспорт
составляет
меньше
половины общего
производства,
и от желания
экспортировать.
Выбор
между этими
вариантами
будет сделан на
основепо
политическихм
соображенийям,
но мы
хотели бы
особо
подчеркнуть
свою
озабоченность
в
отношении
того, чтонам
хотелось бы
подчеркнуть,
что любое
законодательное
решение ВТО
должно быть
основано на
следующих
принципах.
Во-первых,
оно должно
быть легко и
быстро осуществимым
применимым
и быть
нацеленным
на
длительную
перспективу. Во-вторых,
принятое
решение
должно
обеспечить
такоего
положениея,
при котором
приоритет
отдается
нуждам бедных
слоев
населения
развивающихся
стран, не
обладающих
без производственнымого
потенциалома.
В-третьих,
необходимо
стараться
обеспечить такие
условия,
которые
создавали бы
стимул для длянеобходимого
стимулирования
потенциальных
поставщиков
экспорта необходимых
медикаментовцинских
препаратов.
Экономические
аспекты
Какие
бы средства ние
использовались
для
достижения
задач Дохи,
развитые
страны
потребуют
гарантий, предотвращающих
«утечку»
изделий на
другие
рынки, и
обеспечения
такого
положения,
при котором
производство
осуществляется
на экспорт в
необходимую
страну, а не
для продажи
на
внутреннем
рынке. Они
также могут
потребовать принятиядействий
через ВТО мер,
требующих,
чтобы все
страны-члены
были
полностью,
прозрачным образом,
информированы
о природе
сделок. Какие
бы гарантии,
в итоге,
ни были
согласованы,конце
концов не
согласовали,
решающим остается
вопросом
является
вопрос о том,
что
экономическая
рентабельностьие
показатели
поставок в ту
или иную
страну с
ограниченным
рынком может
оказатьсямогут
быть
недостаточно
привлекательнойыми
для
потенциальных
поставщиков препаратов-генериковхожих
препаратов.
Более того,
чтобы цены по
принудительному
лицензированию
были, по возможности,
низкими,,
по
возможности,
ниже, должна
существовать
конкуренцияпри
между
двумя или
более
поставщиками
при заказах
и поставках
должны быть конкуренция
между двумя и
более
поставщиками.
Таким
образом,
чтобы
воспользоваться
снижением
удельных
затрат за
счет
крупномасштабного
производства
и
конкуренции,
важно, по
возможности,
вместе
группировать
малые рынки.
Очевидным
решением
здесь
является совместное
группирование
стран с
аналогичными
потребностями
в необходимыхсущественных
медикаментах
лекарствах.
Международные
учреждения,
такие как ВОЗ
или
Глобальный
фонд по
борьбе со
СПИДом, туберкулезом
и малярией
(ГФСТМ) также
могут сыграть
существенную
роль,
способствуя
и финансируя
групповые приобретения
уот
производителей запатентованных
препаратов
и генерикови
схожих
медицинских
препаратов.
Необходимо
найти способ
сочетать
принятые
решения с
задачами
обеспечения
медикаментовцинских
препаратов
требуемогонужного
качества по
наинизшим
возможным
ценам. Если
этого
достигнуть
не удасться,
то правовые
решения окажутьсябудут
на практике
нереальными.
Возможность
принудительного
лицензирования
также станетбудет
в
таких
условиях
неэффективным
переговорным
средством.
Законодательство
развивающихся
стран
Для
развивающихся
стран
главным
способом
использования
ПНИС для
решения
задач здравоохранения
является
обеспечение
такого
положения,
при котором
их
законодательства
предусматривают
соответствующие
стандарты и
практические
меры. Соответствующие
положения
будут
зависеть от конкретной
страны, ее
обстоятельств
и уровня
развития.
Например,
страны с
хорошо развитой
научно-исследовательской
и разработочной
деятельностью
или с
сильными областями,
например в
биотехнологии,
могут
пожелать
иметь «более
сильную»
защиту, чем
страны,
которые, в основном,
пользуются
технологией
других стран.
Развивающиеся
страны не
должны
чувствовать,
что их
заставляют, и
разумеется,
их не следует
заставлять
следовать
стандартам
развитых
стран по
режимам ПНИС,
иначе они могут
«захлебнуться
в
информационном
потоке».
Например,
количество
новых
химических
составов
утвержденных
к
использованию
Управлением
по контролю
за
продуктами и
лекарствами
США (УКПЛ)
упало до 27 в 2000
году, по
сравнению,
примерно, с 60 в
1985 году.[168] Но
число
патентов,
предоставленных
по главному
патентному
классу новых
составов
лекарственных
препаратов (424)
составляло 6730
в 2000 году.[169]
Огромное
большинство
патентов выдают
не на новые
составы, а на
варианты производственных
процессов,
новыех
описанияй
кристаллических
форм, новыех
комбинациий
известных
продуктов и новоего
использованиея
известных
лекарств. В
период с 1989 по 2000
год лишь 153 из 1035
новых
лекарственных
препаратов были
утвержденных
УКПЛ, были на
лекарства с
новыми
активными
ингредиентами
и предлагавшим
существенноеым
клиническоеим
улучшением.
Еще 472
лекарства
были
классифицированы
как
попадающие в
категорию
средней
новизны.[170]
Основным
принципом
должна быть
нацеленность
на строгие
стандарты
патентоспособности
и сужение рамок
принимаемыхдозволенных
заявок, с
целью:
·
ограничить
рамки
патентуемых
тем
·
использовать
такие
стандарты,
чтобы подавали
заявки подавалисьлишь
лишь на
патенты,
сответствующие
строгим требованиям
патентоспособности
и чтобы охват
каждого
патента был
соизмерим с новаторским
вкладом и
произведенным
раскрытием
·
способствовать
конкуренции,
ограничив способность
патентообладателя
запретить
другим лицам
«работать
вокруг»
запатентованого
изобретения
·
обеспечить
надежную
защиту
против
злоупотребления
патентными
правами.
Все это
поможет
обеспечить
такое
положениея,
при котором
правила
максимально
ограничат
возможности
патентования,
котороечто
скорее
служитдля захватуы
рынка и
исключению
конкуренции,
чем поощрениюя
местной научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности.
Более того, в
соответствии
с вышесказанным,
нестрогие
стандарты и
практика
патентования
могут,
фактически,
затруднить
инновации, мешаязатруднив
научно-исследовательскойую
деятельностиь
другихми
лицами. Поскольку
по правилам
ТРИПС
нельзя
дискриминировать
между
различными областями
технологиитехнологическими
областями,
мы
рассмотрим
более
детальное
приложение
этих
принципов в
Разделе 6.
Специфически
в
фармацевтической
области,
однако,
большинство
развивающихся
стран,
например,
должны,,
по меньшей
мере,, взять
на
вооружениеисключить
у себя допускаемую
рамками
соглашения ТРИПС[171]
возможность
исключать
патентованиея
методов
диагностики,
терапевтики
и хирургии
человека и
животных, в
том числе
новое
использование
известных
изделий (что,
в принципе,
эквивалентно
методам
лечения),
допускаемых
рамками
соглашения
СТАПНИС[172].
Поскольку
большинство
развивающихся
стран не
могут сами таких
методов не разрабытываютразработывать
такие методы,
то им нечего
терять от
использования
такого
гибкого
подхода.
Разумеется, тев
несколькоих
развивающихися
странах, которые
обладают с
научно-исследовательским
потенциалом
в этих
областях,
могут
пожелать
иметь такую
защиту, но
необходимо
отметить, что
и
в
большинстве
развитых
стран такие области
также
исключены из
рамок
патентоспособности.
Мы также
предлагаем,
чтобы развивающиеся
страны очень
внимательно
подумали,
прежде чем
«разбавлять» этотакое
исключение,
снижаяением
требованияй
к новизне и проинимая,зволив
по-существу, патентные
заявки на,по-существу,
первыеое
или
последующие
медицинские
использования
уже
известных
химических составов,
как это произошло
в ряде
развитых и
развивающихся
стран.[173]
Здесь, опять
же-таки,
развитые
страны могут
считать, что
стимулирование
научно-исследовательской
деятельности
оправдывает
такие заявки,
но в
отношении
большинства
развивающихся
страны с
ограниченным
научно-исследовательским
потенциалом,
мы считаем, что
недостатки,
вероятно,
перевешивают
преимущества.
Большинство
развивающихся
стран, особенно
те, в которых
нет
научно-исследовательского
потенциала,
должны
строго
исключить
из своих
законодательств у
себя возможность
патентования
методов диагностики,
терапевтики
и хирургии, в
том числе
новое
использование
уже
известных продуктовизделий.
,
например,
Мы
также
займемся
здесь двумя
вопросами, которые
особенно
влияют на
фармацевтическую
отрасль и
производство
медицинских
препаратов-генериковсхожих
лекарственных
препаратов.
Исключение Болар
В США Акт 1984 года
о
конкуренции
цен на
лекарства и сроки
патентования
отменил
важное судебное
решение (в
процессе
Роше против
Болар, 1984 год)
введением,
среди
прочего, так
называемого
«Исключения
Болар» (или
«раннепроизводственного
исключеания»).
Согласно ему,ему
производитель
схожих
препаратов-генериков
вправе
импортировать,
производить
и испытывать запатентованный
продукт до
истечения
срока
патента, с
целью
выполнения возлагаемых
теми или
иными
странами законодательных
требований
по
возлагаемых
теми или
иными
странами, необходимых
требований
сбыту генериковсхожих
препаратов.
Законность
этого
исключения, с
точки зрения
ВТО, была
подтверждена
в 2000 году при
урегулировании
дела,
возбужденного
ЕвросоюзомС
против
Канады.[174] Для
развивающихся
стран это
очень важно,
особенно,
если они
фактическиее
или потенциальныее
производителии
генериков
схожих
препаратов,
для
выхода на
рынокв самых
дешевых
генериков сразу
же по
истечении
срока
патентацелях
обеспечения
того, чтобы
самые дешевые
схожие
препараты
могли выйти
на рынок сразу
же по
истечении
срока
патента. Даже
если
маловероятно
то, что они
станут потенциальными
производителями
в обозримом будущем,
все равнобудет
решением
включить
такое
исключение в
свое
законодательство
будет
дальновидным.
Это может
быть,
например,
случай, когда
иностранной
компании
может понадобиться
производить
испытания с
целью утверждения
лекарства.
Из просмотренных
нами
законодательств
63
развивающихся
стран,.
чье
законодательство
было нами
просмотрено,
всего лишь
восемь
конкретно
включили в него
исключение
Болар, хотя в
других странах
иногда
разрешается
«раннепроизводственная
деятельность»
в разделе
общих
исключений
к
исключительным
правам (с
формулировкой,
аналогичной
формулировке
Статьи 30 ТРИПС).[175]
Развивающиеся
страны
должны
включить в свое
законодательство
соответствующее
«раннепроизводственное»
исключение к
патентным правам,
которое
ускорит
введение препаратов-генериковсхожих
препаратов
по истечении
срока
патентов.
Рыночное
утверждение
Еще
одним важным
шагом в сбыте
медицинских
препаратов-генериковсхожих
лекарственных
препаратов
является
необходимость
удовлетворяить
соответствующим
нормативным
требованиям.
В Статье 39.3
ТРИПС на
страны
возлагаетсяют
обязанность
обеспечить
неиспользование
конфиденциальных
(например,
испытательных)
данных о
новых
химических
веществах, фигурирующих
в
документации
компаний на
получение
разрешения
при сбыте
новых
лекарств (например
от
Управления
по контролю
за продуктами
и
лекарствами
США) для
получения несправедливого
коммерческогоий
преимущества.
Доводом
в пользу
этого
являются «значительные
усилия», потраченныеущедшие
на сбор
данных.
Фармацевтические
компании, по
понятным
соображениям,
утверждают,
что
несправедливо,
когда
результаты
клинических
испытаний,
стоящие,
возможно
миллионы
долларов, и
другая
информация
передаются
конкурентам,
которые, таким
образом,
экономят на
соответствующих
затратах дприля
получениия
утверждения
на продажу.
Те, кто с этим
не согласны,
утверждают,
что с точки
зрения
здравоохранения
,
что татакие
данные
должны быть
публично
известными,
поскольку
содержат
важную
медицинскую
информацию, к которойую
нельзя
получить
доступ иным
другим
способом, и
что
чрезмерная
секретность
приводит к
нежелательным
результатам
(например,например,
tтакие
данные могжно
было бы подвергнуть
повторному
анализу для ут
быть полезно
повторно
проанализированы
для
выявления по
понимая побочных
эффектов,
обнаруживаемых
лишь после
продажи).
Более того, с общественной
точки
зрения общественного
блага, не
имеет смысла для
возможного
схожего
конкурирующего
препарата повторять
очень
дорогие
испытания потенциального
конкурирующего
препарата-генерика,
если можно
надежно
продемонстрировать
биофармацевтическую
эквивалентность
этогоих
варианта
лекарственного
препарата.
Исключительность,
или
защищенность
данных может оказатьсябыть
барьером на
пути препаратов-генериков
схожих
препаратов,
независимо
от того, является
ли препарат
патентованным
или
же срок запатентован
ли
лекарственный
препарат, либо
период патента
истек.
ТРИПС
не требует
исключительности
данных, как
таковых, в
отношении
испытательных
данных, упоминая
лишь защиту
против
несправедливого
коммерческого
использования.
У
стран ЕС,
однако, естьимеет
правила об
исключительности
таких данных
на
протяжении от
шести до
десяти лет, причем
рассматриваетсяя
возможность
перейтихода
к десятилетнему
периоду
защищенности
данных
годам. Это,
среди
прочего,
означает, что
без согласия
владельца,
здравоохранительные
власти не
могут
полагаться
на такие
данные для утверждения
других
заявок. В США
аналогичная
защита
длится пять
лет.
В
свете
вышесказанного ,
мы считаем, что
развивающиеся
страны
должны
защищать испытательные
данные от
несправедливого
коммерческого
использования,
с тем, чтобы
защитить
законные
интересы
владельцев
данных и их
«значительные
усилия». ТРИПС,
однако,
позволяет
значительную
степень
свободы в
отношении
того, как этого
добиватьсяелать.
Страны
могут
позволить
здравоохранительным
властям
утверждать заменяющие
препараты-генерикисхожие
препараты,
«полагаясь»
на
оригинальные
данные.
Развивающиеся
страны
должны
внедрить у
себя законодательство
по защите
данных,
способствующее
выходу на рынок
схожих
конкурентных
препаратов-генериков,
обеспечив, в
то же время,,
необходимую
защиту
конфиденциальных
данных. Это
можно
сделать
несколькими
способами,
совместимыми
с ТРИПС.
Развивающимся
странам нет
необходимости
принимать
законодательство,
результатом
которого станут
будутлибо
исключительные
права там,
где нет
патентной
защиты нет,
либоили
ненужное
продление
эффективного
периода
патентной
монополии.
Продление
для наименее
развитых
стран, предусмотренное
Декларацией,
принятой в
Дохе
Декларация,
принятаяей
в Дохе, (пункт
семь) поручила
Совету
ТРИПС инструктируют
позволить
наименее
развитым
странам отложить
введение
патентной
защиты на
фармацевтические
изделия и
защиту
конфиденциальности
испытательных
данных до
по меньшей
мере до 2016
года. Мы
приветствуемт
намерения
этого пункта
Декларации,
который
такжехотя
он создает
и
подчеркивает
ряд аномалий.
По
меньшей мере
70% населения
НРС
проживает в
странах с
патентной
защитой
фармацевтических
изделий, и 27 из 30
НРС в Африке
также предоставляют
такую защиту.ее
имеют. Этим
странам
необходимо
изменить
свое законодательство
так, чтобы
устранить
защиту для
устранения
защиты фармацевтических
изделий и иметь
возможность воспользоваться
преимуществами
продления
сроков
введения
защиты. ИмДля
них стоит
это это сделать
ввиду
длительности
предоставленного
продления. Мы
полагаем,
однако, что
изменение
законодательства
не может быть
ретроспективным,
так что
текущие
патенты останутся
в силе.
Некоторые
страны также
будут ограничены
в изменении
законодательства
двусторонними
или
многосторонними
соглашениями.
Например 12
НРС среди
стран-членов OAPI (три из
них не
относятся к
категории
наименее
развитых)
необходимо
согласовать пересмотризменение
Договора
Бангуи,
согласно
которому
действует OAPI. Другие
страны также,
очно
так же и другие
возможно,могут
быть
связаны
двусторонними
соглашениями,
не позволяющими
предпринять
такие
действия.
Мы не
уверены,
стоит ли
странам, не
внедрившим еще
еще
защиту ИС,
внедрять
весь режим
защиты ИС в 2006
году, за
исключениемне
включающий
защиты
фармацевтических
изделий.
Поскольку на
фармацевтические
изделия
приходится
существенная
доля всех
патентных
заявок
(например, 50%
патентов,
выданных ARIPO в 1994-1999 годах
относились к
фармацевтическим
изделиям),[176]
еще трудней
оправдать
финансовые и
человеческие
ресурсы,
необходимые для
внедрения
режима ИС в
этих странах ради
одних лишь
нефармацевтических
отраслей.
Статья 66.1
ТРИПС
уполномачивает
Совет ТРИПС
продлевать в
НРС
переходный период
с учетом
«особых
потребностей
и
требований
их
экономических,
финансовых и
административных
ограничений
и
необходимой
гибкости для
создания
жизнеспособной
технологической
базы». В свете
этого, нелогичноследовательно,
не очень-то
логично на
основании
по причинам
аспектов
охраны
здоровья продлевать
периодпродлевать
до
определенной
будущей датыпериод
дляв
одной
отрасли, в то
время, какогда
критерий
продлениея
по ТРИПС основано
на гораздо более
широких
критеориях более
широкий.
НРС, в
которых уже
существует
защита фармацевтических
изделий,
должны
внимательно
рассмотреть
возможность
изменения своего
законодательства
так, чтобы воспользоваться
преимуществами
Декларации,
принятой в
Дохе. В
соответствии
с нашим общим
анализом,
Совет ТРИПС
должен
пересмотреть
переходные положения
для НРС, в том
числе и в отношении
стран,
подавших
заявку на
присоединение
к ВТО, во всех
технологических
сферах.
Раздел 3
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ
ВВЕДЕНИЕ
ОбщаяСправочная
информация
Трудно
переоценить
значение
сельскохозяйственного
сектора для
развивающихся
стран в
качестве
источника
продовольствия,
дохода,
занятости, а
зачастую и
иностранной
валюты.
Наряду со здравоохранением,
продуктивное
сельское
хозяйство
имеет
решающее
значение для
достижения
экономического
роста и
снижения
бедности.
Около трех
четвертей
бедных слоев
населения
мира живут и
работают в
сельской
местности.[177] Наряду с
непосредственной
ролью
сельского
хозяйства в
поддержании
доходов и
занятости,
много
обсуждается
экономистами
и политическими
деятелями и
его значение
в
стимулировании
общего экономического
роста и, в
частности,
технологических
изменений в
этой отрасли.
Рост производительности
в сельском
хозяйстве может
непосредственно
привести к
росту доходов
и
уровня
занятости
значительных
слоев
бедного
населения,
зависящих
от
сельского хозяйства.
Это также
может помочь
снизить цены
на
продовольствие
(в
относительных
или
абсолютных
цифрах) для
бедных слоев
населения
села и
города.
В
традиционном
понимании,
сельское
хозяйство
считалось -
не всегда
однозначно -
источником
продовольствия,
рабочей силы
и
материальной
базы,
снабжающим
растущий
городской и
промышленный
сектор, от которых
зависит
устойчивый
рост доходов населения.
Достижение
такого
перехода, обычно,
зависит от
роста
производительности,
без которой
может
произойти
рост
продовольственных
цен,
снижающий
промышленный
рост и темпы
падения
уровня
бедности. В
развитых странах
рещающим
элементом
промышленной
революции
считаются
изменения
технологии и
учреждений
сельскохозяйственного
сектора.
В развивающихся
странах,
технической
прогресс традиционно
шел
экспериментальным
путем на
самих фермах,
где
осуществлялась
селекция и
адаптация
традиционных
пород и культур.
Впоследствии
к этому
методу стали
добавлять
целенаправленную
селекционную
работу по
выведению
новых
культур, в
основном
скрещиванием,
для
получения
желательных
характеристик.
Такой
научно-исследовательский
процесс,
преимущественно
в
общественном
секторе,
осуществляется
национальными
научно-исследовательскими
институтами
при поддержке
сети международных
научно-исследовательских
институтов,
которые в
течение
последних тридцати
лет
находились
под эгидой
Консультативной
группы
международных
сельскохозяйственных
исследований
(КГМСИ).
Именно эта
сеть привела
к «зеленой
революции» 1960-х
годов, которая
была вначале
основана на
высокоурожайных
полукарликовых
культурах
риса и пшеницы.
Несмотря на
критику, в
экологическом
и
распределительном
плане, этой
технологии широко
приписывают
благоприятное
влияние на
уровень
питания,
занятости и
доходы, в
основном,
правда, в тех
развивающихся
странах, где можно,
до
определенной
степени,
обеспечить
постоянную
ирригацию.
Дополнительная, хоть и
менее
успешная,
селекционная
работа
проводилась
впоследствии
для распространения
этой
технологии
на новые культуры,
а также
неорошаемые
и засушливые
земли.
В
последнее
время
произошли
существенные
изменения в
технологии и
структуре
научно-исследовательской
деятельности
в области
сельского
хозяйства.
Во-первых,
развитие
биотехнологии
и, в
частности,
генетической
инженерии в
последние
двадцать лет
сильно
расширили пределы
достижимого
в
сельскохозяйственной
научно-исследовательской
деятельности
(например,
введение
новых
генетических
признаков
растений).
Во-вторых, в
то время как
общественные
инвестиции в
общественную
научно-исследовательскую
деятельность,
во всяком случае
посредством
КГМСИ, в
последние
годы остаются
без
изменений
или
сокращаются,
инвестиции в
частном
секторе
быстро
растут.[178]
Направление
и цель
дополнительных
научно-исследовательских
затрат все
больше
диктуются
рыночными
силами.
Права
на
интеллектуальную
собственность
в сельском
хозяйстве
По
сложившейся
традиции,
система
защиты интеллектуальной
собственности
относилась, в
основном, к
механическим
изобретениям
того или
иного рода
или к
художественным
произведениям.
Приписывание
ПНИС живым
организмам
началось в
развитых
странах
сравнительно
недавно.
Вегетативно
размножающиеся
растения
впервые
начали
патентовать в
США лишь в 1930
году, а
защита
культур
растений (или
права
селекционеров
растений -
ПСР) новая
форма
интеллектуальной
собственности
широко распространилась
лишь во
второй
половине 20-го
века. Таким
образом,
система
защиты растений -
результат
экономической
структуры и
условий в
сельском
хозяйстве развитых
стран в этот
период
времени. Факт
возникновения
такой
системы
отражает
растущий
интерес
частных
селекционеров
к защите
своей интеллектуальной
собственности.
По традиции,
крестьяне
повторно
высевали,
обменивали и
продавали
семена
прошлогодних
урожаев. Это
значило, что
селекционерам
нелегко было
окупить
инвестиции,
затраченные
на улучшение
культур
растений, за
счет
повторных
продаж. Патентование
или ПСР
обычно
оганичивает
фермеров в их
способности
продавать
выросшие у
них семена (а
в некоторых
случаях и повторно
использовать),
улучшая,
таким образом,
рыночные
условия для
семян
селекционеров.
Даже в
развитых
странах
повторное
использование
семян
остается
довольно
распространенным,
хотя в
отношении
многих культур
правила
сейчас
требуют
ежегодных закупок
семян. В
развивающихся
странах большинство
крестьян повторно
высевают,
обменивают и
просто продают
семена
соседям, и в
большинстве
стран случаи
ежегодной
закупки
семян встречаются
пока
сравнительно
редко.
С
принятием
соглашения
ТРИПС на
развивающиеся
страны
теперь
возложена
обязанность
защищать
культуры растений
патентованием
или иным
способом, но
вопрос о том,
не отразится
ли это как
на
производителе,
так и на
потребителе, а
также на
наличии
продовольствия,
не получил
при этом
серьезного
рассмотрения.
Как и в
случае
медицинских
препаратов
самый главный
вопрос здесь
- может ли
защита
интеллектуальной
собственности
стимулировать
соответствующую
научно-исследовательскую
деятельность
и инновации,
необходимые
для
развивающихся
стран и
бедных слоев населения,
и если может,
то как этого
добиться. Нам
также нужно
задаться
вопросом о
том, как
защита ИС повлияет
на затраты и
доступ
крестьян к
семенам и
другим
необходимым
орудиям
производства.
Если
цель защиты
культуры
растений
поощрить
работу
селекционеров,
то один из
возникающих
здесь
вопросов
как признать
и сохранить
вклад
фермеров в
охрану
окружающей
среды и
развитие
генетических
ресурсов. До
введения
формальных
селекционных
программ
улучшение
культур
растений зависело
от
селекционной
и
экспериментальной
работы
фермеров. С
тех пор
формальные
селекционные
программы
использовали
эти культуры
растений и знания
для
разработки
улучшенных
культур с
более
высокой
производительностью
и другими
желательными
характеристиками.
Вопрос в том,
нужно ли
защищать или
вознаграждать
такой вклад
крестьян в
охрану
окружающей среды
и инновации.
На основе
принципов,
закрепленных
в Конвенции о
биологическом
разнообразии
(КБР), которую
мы обсудим в
следующем
разделе,
новый
Международный
договор по
генетическим
ресурсам
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства
(МДГРРПСХ) стремится
выработать
принципы
способствования
доступу к
генетическим
ресурсам растений
и созданию
справедливых
и равноправных
механизмов
раздела
выгод.
В
данном
разделе мы
займемся
следующими вопросами:
·
Может
ли защита
интеллектуальной
собственности
на растения
и
генетические
ресурсы помочь
создать
технологии,
нужные
фермерам
развивающихся
стран?
·
Повлияет
ли защита ИС
на доступ
крестьян к необходимой
технологии?
·
Какой
вклад может
система
интеллектуальной
собственности
внести в
принципы
доступа к экономическим
выгодам и
раздела
выгод, закрепленные
в КБР и
МДГРРПСХ?
РАСТЕНИЯ
И ЗАЩИТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Введение
По
ТРИПС, страны
могут
исключить из
сферы патентования
растения,
животных и,
преимущественно,
биологические
процессы производства,
но не
микроорганизмы.
Им
также
необходимо
иметь
какой-то вид
защиты ИС,
будь- то
в патентной
или иной
специфической
(sui generis) форме
защиты
культур
растений.
В
отношении
определений
и
формулировок
ТРИПС иногда
возникает
ряд
юридических
сложностей;
так,
например,
обстоит дело
с точным смыслом
терминов
«культуры
растений»,
«микроорганизм»
или «преимущественно
биологический
процесс».
Важно,
однако, заметить,
что в ТРИПС
не упомянуто,
подлежат ли патентованию
гены, будь-то
гены
растений, человека
или животных.
ТРИПС
затрагивает
вопрос о том,
что считать
изобретением
в отношении
генетических
материалов.
Например,
следует ли
считать
патентуемыми
гены,
обнаруженные
в природе, на
том
основании,
что в процесс
их выделения
отличает их
от
незапатентованных
открытий? Этот
вопрос
решается национальными
законодательствами.
Единственным
конкретным
требованием,
за исключением
микроорганизмов,
является
защита культур
растений.
Некоторые
люди вообще,
из этических
соображений,
возражают
против
патентования
живых форм,
считая, что
нельзя
заводить
частную собственность
на созданные
природой
материалы,
что это
противоречит
культурным
ценностям
многих стран
мира.
Нахождение
последовательности
генома
человека также
вызывает у
них
озабоченность.
Мы понимаем
такую озабоченность
и обсуждаем
эти аспекты в
Разделе 6 в
контексте
разработки
систем
патентования.
Этические и
правовые
аспекты
патентования
ДНК
обсуждены в
недавнем
отчете Нуффилдского
совета по
биоэтике.[179]
Наша задача
- рассмотреть
практические
и
экономические
последствия
патентования
в сельском
хозяйстве,
показать как
это влияет на
жизнь бедных
слоев
населения и
каковы
последствия
с точки
зрения
разработки
политики в
этой области.
Защиту
интеллектуальной
собственности
в отношении
растительных
материалов
можно
осуществлять
несколькими
способами:
·
Американская
модель
патентования
растений,
отличающаяся
от обычного
(утилитарного)
патентования
·
Разрешая
обычное
патентование
растений и их
составных
частей, таких
как клетки
·
Патентованием
культур
растений в
соответствии
с практикой
США и
некоторых
других стран
(но не ЕС)
·
Применяя
специфические sui generis формы
защиты
культур
растений
(ЗКР), таких как
права
селекционеров
растений
(например, в
ЕС и США ) или
других
вариантов
·
Разрешением
патентования
последовательности
ДНК и генных
комплексов,
включая гены,
растения,
преобразованные
с помощью таких
комплексов,
семена и
потомство
таких растений.
Кроме
того,
патентование
широко
используют
для защиты
технологии
научно-исследовательских
учреждений
по геномике
растений.[180]
Кроме
использования
патентования
и ЗКР, интеллектуальную
собственность
по растениям
можно
сохранять и
технологическими
средствами.
Невозможно,
например,
повторно
использовать
коммерческий
гибрид[181] курурузы
если хотят
сохранить
его урожайность
и эффективность.
Такие
свойства
некоторых
гибридов
являются
естественной
формой защиты,
с помощью
которой
компаниям
легче окупать
инвестиции
путем
повторной
продажи семян.
В
противоположность
этому, есть
виды семян,
которые
можно
ежегодно
повторно высевать
без потери
урожайности,
так что
крестьяне
могут высевать
семена без
повторной
покупки.
Культуры
«зеленой
революции»
попадают в
этот разряд,
и по этой
причине они
оказались
столь успешными,
гибридные же
культуры
риса и пшеницы
были
разработаны
сравнительно
недавно. Ограничительные
технологии
генетического
использования
(ОТГИ) термин,
испольуемый
для описаний
разных форм
контроля
воздействия
генов в
растениях.
Хорошо известна
так
называемая
«терминаторная»
технология,
делающая
семена
бесплодными,
так что
получить из
них
следующий
урожай[182]
физически
невозможно,
но - по
агрономическим
или
коммерческим
соображениям
- контролировать
можно и
другие
характеристики.
Эффект
технологической
защиты
аналогичен
эффекту
защиты ИС, но
он, возможно,
дешевле и
определенно
в смысле
самоусиления
-
эффективнее.
Научно-исследовательская
деятельность
и развитие
По
сравнению с
научно-исследовательской
деятельностью
в медицине, в
сельском
хозяйстве
развивающихся
стран
осуществляется
намного
больше
научно-исследовательских
и разработочных
работ,
имеющих
непосредственное
отношение к
развивающимся
странам.
Например, по
оценкам 1995
года, общие
затраты
общественного
сектора в
указанном
году на
сельскохозяйственную
научно-исследовательскую
деятельность
в
развивающихся
странах, даже
при неравномерном
распределении,
составили 11.5
млрд
долларов США
(в
международных
долларовых
ценах 1993 года),
по сравнению
с 10.2 млрд
долларов США,
затраченных
в развитых
странах.[183]
Большинство
научных
исследований
осуществляется
в более
технологически
развитых
развивающихся
странах Азии
и Латинской
Америки. Более
того, затраты
на
научно-исследовательскую
работу в этих
странах с 1976 по
1996 годы росли
по 5-7% в год, в то
время, как в
Африке
подобного
роста не
наблюдалось.[184] В
отличие от
этого, из
частных научно-исследовательских
мировых
фондов, составляющих
11.5 млрд
долларов США
, лишь 0.7 млрд
долларов
США
было
потрачено на
развивающиеся
страны.
Это
означает, что в
глобальном
масштабе
около трети
сельскохозяйственных
научно-исследовательских
и разработочных
расходов
тратится на
развивающиеся
страны. Это
существенно
отличается
от здравоохранения,
где от силы 5%
идет на здравоохранительную
научно-исследовательскую
деятельность
развивающихся
стран. Здесь
необходимо
отметить три
момента.
Во-первых,
глобальные
расходы на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
в сельском хозяйстве
составляют
лишь чуть
свыше половины
соответствующих
здравоохранительных
затрат.[185]
Во-вторых,
сельскохозяйственная
научно-исследовательская
и
разработочная
деятельность
в
общественном
секторе
почти вдвое
превышает ее
в частном
секторе. В
области
медицинских
препаратов,
затраты
частного сектора,
как мы видим,
пропорционально
выше.
В-третьих, и
частично в
результате этого,
научно-исследовательская
деятельность
в сельскохозяйственной
отрасли в
развивающихся
странах
находится в
относительно
лучшем состоянии.
Тем не
менее,
нынешние
тенденции
вызывают озабоченность.
Хотя КГМСИ
затрачивает
всего около 340
миллионов
долларов США
в год, она
имеет
стратегически
важное
значение. Например,
центры КГМСИ
сыграли
решающую роль
в зеленой
революции,
будучи
сейчас хранилищем
самой
крупной в
мире
коллекции генетических
ресурсов,
имеющих
отношение к развивающимся
странам, что
является
крупнейшим
источником
будущего
повышения урожайности.
Финансирование
системы
КГМСИ,
однако, предоставляемое
спонсорами, в
реальном
выражении
продолжает
падать с 1990
года[186], что
угрожает как
научно-исследовательской
деятельности,
так и
способности
содержать
генетические
банки и
помогать
развивающимся
странам
содержать
свои
коллекции.
ФАО и КГМСИ
даже открыли
специальный
фонд помощи
банкам генетических
материалов
во всем мире.[187]
Хотя
финансирование
со стороны
спонсорских
организаций
помощи не
растет, динамичным
элементом
сельскохозяйственной
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности
становится
частный
сектор, но
лишь
небольшая доля
этих усилий
направлена
на развивающиеся
страны и
бедных
фермеров.
Эффект
системы
защиты
культур
растений
В
данном
разделе мы
рассмотрим
имеющиеся данные
о влиянии
защиты
культур
растений
(ЗКР) в
развитых и
развивающихся
странах, а
также что
такие
системы ЗКР
могут дать
развивающимся
странам.
Большинство
данных,
относящихся
к воздействию
патентования
или защиты
культур растений
на
научно-исследовательскую
деятельность,
получены в
развитых
странах, да и
они весьма
немногочисленны.
До введения
защиты ИС
селекционная
работа в
частном секторе
была
сосредоточена
на
гибридных
культурах,
особенно на
курурузе в
США, поскольку
этим
культурам
присущ
элемент технологической
защиты. В
исследовании,
проведенном
в 80-х годах в США,
указывалось
на то, что нет
доказательств
роста общей
научно-исследовательской
деятельности
в результате
введения ЗКР,
хотя,
по-видимому,
она
некоторым
образом сказалась
на научных
работах по
соевым бобам
и, возможно,
пшеницы.[188] На
последнюю
культуру
пришлось большинство
выданных
удостоверений
ЗКР. Имелись
также
определенные
указания на
то, что ЗКР
используется
для рыночной
стратегии
дифференциации
продуктов, и
что это способствовало
большому
числу
реорганизаций
и слияний в
семенной
промышленности.
На основании
всех этих
фактов
нельзя, однако,
придти к
какому-то
определенному
заключению, в
частности,
из-за того,
что трудно отделить
эффект
защиты от
других
происходящих
изменений.
Даже сегодня
научно-исследовательская
деятельность,
связанная с
урожаями
гибридов, по
доле затрат
от объемов сбыта
продолжает
превышать
негибридную
долю,
явлющуюся
основной
целью ЗКР.[189] В
недавно
опубликованной
работе было
установлено,
что в США ЗКР
по пшенице не
привела к
росту инвестиций
частного
сектора в
селекционную
работу по
этой
культуре,
хотя,
возможно, это
произошло в
общественном
секторе. Не
отразилась
она и на
повышении
урожайности.
Однако
значительно
увеличилась
доля площадей,
засеянных
частными
культурами
пшеницы,
подтверждая,
что основное
воздействие
ЗКР выражается
в качестве
рыночного
рычага.[190]
В
крупном
исследовании,
посвященном
среднедоходным
развивающимся
странам[191], не было
найдено
доказательств
расширения
диапазона
доступных
фермерам
растительных
материалов,
или увеличения
числа
инноваций,
введенных в
результате
защиты ЗКР.
Улучшился
доступ к
иностранным
генетическим
материалам,
но их использование
иногда
ограничивали,
например, в
отношении
экспорта.
Вообще
говоря, бытовало
мнение, что
выигрывают
от этого, в
основном,
коммерческие
фермеры и
семенная
промышленность.
Бедные
фермеры
непосредственно
от защиты не
выиграли,
наоборот, на
них могут
отрицательно
сказаться
ограничения
на хранение и
обмен семян в
будущем.
По
ТРИПС,
развивающиеся
страны могут
выбрать
«эффективную
специфическую
систему sui generis» ЗКР.
Важно решить,
какая
система
лучше всего
подходит для
конкретных
сельскохозяйственных
и
социально-экономических
обстоятельств.
На основании
введенных в
Европе и США
законодательств
они могут принять
Конвенцию
УПОВ (см.
врезку 3.1),
которая
обеспечивает
готовые
законодательные
рамки, но
недостатком
здесь
является то,
что
разработана
она с учетом
коммерческих
сельскохозяйственных
систем
развитых
стран. В
связи с этим
существуют
опасения,
касающиеся
применения
модели УПОВ в
развивающихся
странах,
причем некоторые
из них
относятся к
любой форме
ЗКР.
Критерии
предоставления
удостоверения
ЗКР имеют
более низкие
пороги, чем
стандарты
патентования
-
предъявляются
требования
относительно
новизны и
отличия, но
нет эквивалента
неочевидности
(изобретательный
шаг) или
утилитарности
(промышленного
применения).
Таким
образом,
законодательство
по ЗКР позволяет
селекционерам
защитить
культуры
растений с
очень
схожими
характеристиками,
означая, что
в такой
системе
заложены,
преимущественно,
коммерческие
соображения
дифференциации
продукта и
запланированного
устаревания,
а не реальные
улучшения
агрономических
признаков.[192]
Развивающиеся
страны могут
рассмотреть
возможность
введения
более высоких
порогов, в
частности
таких,
которые защищали
бы лишь
существенные
важные
инновации с
особыми
свойствами,
считающиеся
общественнополезными
(например,
рост урожайности
или
питательности).
Таким
образом, можно
укреплять
критерии
отличия, а
также формулировать
критерии
утилитарности
в терминах целей
сельскохозяйственной
политики. В противном
случае, у таких
стран есть
возможность
сохранить
более низкие
стандарты по
определенным
категориям
растений, тем
самым
способствуя
доступу
зарождающейся
местной
селекционной
деятельности
к защите ЗКР,
со всеми
вытекающими
отсюда
коммерческими
и экспортными
выгодами.
Требование
к
однообразности
(и стабильности)
в системах
типа УПОВ
также
исключает местные
культуры
растений,
разработанные
местными
фермерами и
имеющие
более разнородные
и менее
стабильные
генетические
характеристики,
хотя именно
такие характеристики
и делают их
более
приспособляемыми
и
подходящими
для
агроэкологии
окружающей
стреды, в
которой
живет большинство
бедных
фермеров.
Здесь, опять
же, у
развивающихся
стран
имеется
возможность
разработать
системы,
защищающие
культуры
растений, отвечающие
критериям,
обстоятельствам
и культурам,
от которых
зависят
бедные
фермеры.
Однако
означить
такие
критерии непросто,
а сама
система
может
оказаться дорогостоящей
в
использовании.
Правительство
также может
счесть, что
расширение
такой
системы не сыграет
положительной
роли в
развитии
сельскохозяйственных
систем.
Еще
одним
предметом
озабоченности
является
критерий
однообразия.
Сторонники
ЗКР утверждают,
что при
поощрении
производства
новых
культур
растений
практически
расширяется
биологическое
разнообразие,
но
существует
мнение, что требование
к
однообразности
и сертификация
фактически
схожих
культур лишь
увеличивают
однообразие
и приводят к
меньшему биологическому
разнообразию.
Разумеется, такая
озабоченность
выходит за
рамки ЗКР. Во
многих
странах
законодательство
по семенам
предусматривает
строгие
требования к
однообразию,
иногда даже
строже, чем
само законодательство
ЗКР. Более
того,
аналогичные
соображения
высказываются
и в отношении
большего
однообразия,
связанного с
успехом
культур
зеленой революции,
что приводит
к повышению
восприимчивости
к болезням и
снижению
полевого
биологического
разнообразия.
По мере того,
однако, как
селекционная
работа все
больше
переходит в
частный
сектор и происходит
широкомасштабное
вытеснение
традиционных
культур
новыми,
важнейшее
значение
приобретает
вопрос о
сохранении
генетических
ресурсов для
возможного
использования
в будущем,
будь-то на
полях или в
«генетических
банках».[193]
Может
также
возникнуть
необходимость
в создании
дифференцированных
стандартов
защиты для
различных
типовых
культур. Например,
в странах со
значительным коммерческим
и экспортным
сектором
можно принять
стандарты
типа УПОВ для
соответствующих
культур в
этих
секторах, с
тем, чтобы
поощрить
инновации и
коммерческий
подход.
Другие
стандарты
можно
принять для
выращиваемых
фермерами
продовольственных
культур,
защищая практику
хранения,
продажи и
обмена семян и
неформальные
системы
инноваций.
Например, в
Кении права
ЗКР, судя по
всему, в
основном
распространяются
на
находящийся
в руках иностранцев
коммерческий
экспорт
цветов и овощей.
Этим
содействуют
коммерческому
подходу и
экспорту, что
в свою
очередь,
помогает
расширению
кенийского
экспорта и
коммерческому
сельскому
хозяйству в
стране и косвенным
образом идет
на пользу
бедным слоям
населения.
ЗКР может
способствовать
наличию
новых
культур
растений в
Кении
(которых, в
отсутствие
защиты, могло
бы и не быть),
но она, по
всей
видимости,
почти не
играет сколь-либо
значительной
роли в
поощрении
местной научно-исследовательской
деятельности.
Эта система,
по-видимому,
не слишком удовлетворяет
непосредственные
заботы бедных
фермеров
Кении и не
соответствует
выращиваемым
ими
культурам.
Врезка 3.1. Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vιgιtales/
Международный
союз защиты
новых
культур растений
(УПОВ)
UPOV
является
международно
признанным
соглашением
ЗКР.
Конвенция
УПОВ была
подписана в 1961
году, и
персматривалась
с тех
пор трижды.
Помимо Южной
Африки, в 1994
году первыми
подписавшими
УПОВ
развивающимися
странами
стали
Уругвай и
Аргентина, и
членами
конвенции
стали в то время
26 стран. С тех
пор к ней
присоединилось
еще 24
развивающиеся
страны. Хотя
в ТРИПС говорится
просто о
специфическом
(sui generis) режиме,
УПОВ стал
очевидным
выбором в
качестве
основы для
разработки
законодательства.
Кроме того, в
контексте
двусторонних
торговых
соглашений,
на разные
страны
оказывают
давление,
требуя от них
присоединения
к УПОВ
(например,
недавнее
американо-вьетнамское
торговое
соглашение
обязывает
обе стороны к
членству в
УПОВ, при
этом США уже является
членом).
Цель
вышеуказанной
конвенции
обеспечить
признание
странами-членами
достижений селекционеров
новых
культур
растений, предоставив
им
исключительное
право собственности
на основе
ряда единых четко
определенных
принципов.
По
мере
пересмотра
УПОВ (в 1978 и 1991
годах),
раширялись
объем и
продолжительность
защиты. Минимальный
период
защиты
возрос до 20
лет (25 лет в
случае
виноградной
лозы и
деревьев) в
варианте 1991
года (прежде - 15
и 20 лет). В
отличие от
патентов,
здесь
критерии
защиты не
связаны с
изобретательным
шагом. Культуры
растений
должны лишь
отличаться
от других,
быть
однообразными,
стабильными
и новыми (с
точки зрения
прежнего
коммерческого
использования).
Акт 1978
года
позволил селекционерам
использовать
защищенные культуры
растений в
качестве
источника новых
культур,
которые
можно, в свою очередь,
защищать и
реализовывать.
Акт 1991 года
сохранил
исключение
для
селекционеров,
но право
селекционера
в нем
распространяется
на культуры,
«преимущественно
полученные»
от защищенных
культур,
которые
нельзя
сбывать без разрешения
первоначального
владельца.
Акт 1978
года дал
селекционерам
защиту в отношении
производства
для продажи
семян, его представления
к продаже и
коммерческого
использования
(Статья 5 (1)),
неявным
образом
позволив
фермерам
повторно
высевать и
обменивать
семена (хотя
это право не
изложено в
явном
порядке). Акт 1991
года
является
более ограничительным
в отношении
прав
фермеров.
Право
селекционера
теперь
распространяется
на
производство
или
воспроизводство,
а также сбыт
рассады или
собранных
материалов
(Статья 14 (1)).
Ограничение
смягчено за
счет фермерского
исключения,
позволяющего
«фермерам
использовать
для рассады
на собственных
участках
продукт
урожая защищенной
или
[«преимущественно
полученной
от защищенной»]
культуры на
своем
участке (Статья
15 (2)).[194]
Таким
образом,
развивающиеся
страны должны
рассмотреть
возможность
разработки законодательства
ЗКР в
соответствии
с реалистичной
оценкой того,
как это может
пойти на
пользу их
сельскохозяйственному
развитию и
продовольственному
снабжению,
учитывая
также роль
сельского
хозяйства в
экспорте,
получении
иностранной
валюты и
занятости.
Им, в
частности,
необходимо
рассмотреть
возможность
модификации модели
УПОВ, приспособив
ее к своим
обстоятельствам.[195]
Ряд стран
уже приняли
или
рассматривают
законодательства,
основанные
на
вышеописанных
элементах.[196]
Важным
аспектом
специфических sui generis систем
являются
рамки
применяемых
к фермерам
исключений. В отличие
от патентования,
в
законодательство
ЗКР можно, в
целом,
вводить
исключения,
как, например,
в УПОВ 1978 года,
которые
позволяют
фермерам повторно
использовать
собранные
семена без
разрешения
правообладателя.
В США
такие
исключения
расширили,
позволив
ограниченную
продажу
собранных
семян другим
фермерам. В
развивающихся
же странах, в
отсутствие юридических
правил,
фермеры
обменивают и
продают
семена
неформально. Как мы
уже отмечали,
такая
практика все еще
очень широко
распространена
среди бедных
фермеров
развивающихся
стран и даже
довольно
часто
встречается
в развитых
странах. Эти
системы
продажи и
обмена -
важный механизм,
с помощью
которого
фермеры
традиционно
отбирали и
улучшали
свои
культуры.
Ограничение
таких прав
может
затруднить
такой
процесс
совершенствования. Хотя УПОВ
(1991) и разрешает
странам
позволять фермерам
повторно
использовать
на своих участках
семена
собственного
урожая, неформальные
продажа и
обмен
запрещены. В отличие
от этого,
ТРИПС лишь
требует, чтобы
была
соблюдена
какая-то
форма защиты
ИС в отношении
культур
растений,
никоим
образом не
определяя
исключений
из прав
владельцев
по
защищенным
культурам
растений.
Таким
образом,
страны и
организации
экспериментировали
с рядом
альтернатив.
Например, ОАЕ
(теперь
Африканский
Союз)
разработал
законодательную
модель,
рекомендуемую
им для африканских
стран в
качестве
основы
собственных
законодательств.
В ней
обеспечено
право
хранить,
использовать,
размножать и
обрабатывать
сохраненные
фермером
семена, но не
разрешается
коммерческая
продажа.[197]
Индийское правительство,
которое
недавно
подало заявку
о
присоединении
к УПОВ,
включило в
свое законодательство
ЗКР (2002 год)
пункт
использования
(39 (1) (iv)), в
котором
говорится:
«фермеры
вправе
хранить,
использовать,
высевать,
повторно
высевать,
обменивать,
делиться и
продавать
свою
продукцию,
включая семена
культур,
защищенных
настоящим
Актом, точно
так же, как
это делалось
до вступления
настоящего
Акта в силу:
при
условии, что
фермеры не
вправе
продавать
фирменные
семена
культур,
защищенных настоящим
Актом».[198]
Исключение
для
селекционеров
по ЗКР также
отличается
от
патентного
законодательства
тем, что
селекционеры
могут, без
особого на то
разрешения,
использовать
защищенную
культуру в
качестве
основы для
выведения
другой
культуры
(которая сама
может стать защищенной).
Таким
образом, ЗКР обеспечивает
менее
сильную
защиту, чем
патентование,
и, как мы
утверждали,
дает меньше
стимула для
научно-исследовательской
деятельности,
но она также
и менее
ограничительна
по сравнению
с
патентованием,
в смысле инкрементальных
последующих
инноваций.
Опять же,
развивающиеся
страны
вольны
выбирать,
какие именно
исключения
применять. С
одной стороны,
ЗКР можно
рассматривать
в качестве
более
высокой
формы
сертификации
за печатью, дающей
владельцу
исключительное
право на
продажу
семян с такой
печатью,
однако при
этом нет права
защиты
против
последующего
использования
или продажи
семян, не
продаваемых по
такому
удостоверению. Такое
право выше
торгового
знака или
семенного
удостоверения,
но оно никак
не
ограничивает
повторного
использования
собранного
материала. Указанная
система
может быть
методом приспособления
системы ЗКР к
потребностям
бедных
фермеров,
хотя она
меньше
стимулирует
работу
селекционеров.[199]
Эффект
патентования
Патенты
на культуры
растений
разрешается
получать
лишь в США ,
Японии и
Австралии, но
чаще всего
такое
патентование
применяют в
США. Актом 1930
года в США
была введена
особая форма
патентования
для растений,
размножающихся
вегетативным
способом, но
в США
стандартные
утилитарные
патенты
теперь
выдаются также
и на культуры
растений.
Патентование
самая
сильная
форма защиты
интеллектуальной
собственности,
в том смысле,
что она,
обычно,
позволяет
правообладателю
больший
контроль над
использованием
патентованных
материалов,
ограничив
права
фермеров
продавать
или повторно
использовать
выращенные ими
семена либо
права других
селекционеров
использовать
семена (или
патентованную
промежуточную
технологию )
для
дальнейшей
научно-исследовательской
деятельности
и
селекционной
работы. В
патентном
законодательстве,
однако,
бывают
исключения,
аналогичные
исключениям
в системах ЗКР.
Например, директива
ЕС по
биотехнологии,
хотя она и не
допускает
патентования
культур
растений, все
же
предоставляет
фермеру
исключение там,
где
патентование
генетических
материалов
предотвратило
бы повторное
использование
в фермерском
хозяйстве.
Директива
также
содержит
положение о
принудительном
лицензировании
на
определенных
условиях,
когда
использование
материалов
селекционером
нарушило бы
патентные
права.[200]
В США
патентование
культур растений
имеет особое
значение,
поскольку
при
соответствующем
составлениии
заявочных
патентных
формул
владелец
патентованной
культуры
может
предотвратить
ее использование
другими
лицами в
селекционной
работе, чем
патент
существенно
отличается
от ЗКР. Доказать,
что новая
культура
отвечает
критериям
патентоспособности
сложнее и
дороже, чем в
случае
защиты
культур
растений, где
критерии
защиты ниже.
Патентную
защиту также часто
получают с
помощью
широкоохватного
патента, в
котором
патентная
формула включает
ген, вектор
или носитель
преобразования,
что может
включать
целый ряд
потенциальных
культур с
таким геном.
На практике
все это может
иметь тот же
эффект, что и
патентование
целого
растения,
потому что
патенты, как
правило,
применимы «ко
всем
материалам
включающим
данный
продукт».[201]
Каков
бы ни был
стимул
патентования,
рыночные
силы
направляют
научно-исследовательскую
деятельность
частного
сектора туда,
где выше
потенциальный
возврат.
Однако в отличие
от
медикаментов,
для компаний
здесь
существует
притягательный
потенциал и
культур,
широко
выращиваемых
в
развивающихся
странах. В
соответствии
с этим,
инвестиционные
затраты
будут более
низкими, чем
при
медицинских
научных
исследованиях,
а
потенциальный
рынок больше.
Например,
рис,
стоимость
продукции которого
в одной лишь
Индии
превышает
стоимость кукурузного
рынка в США,
до сих пор
являлся культурой,
по которой
селекционной
работой занимались
учреждения
национального
и международного
общественного
сектора (главным
образом
КГМСИ). С
недавних пор
пор, однако,
частный
сектор стал
все больше
интересоваться
научно-исследовательской
деятельностью
в области
риса. Фирмы
«Монсанто» и
«Синджента»
работают над
геномом двух
важнейших
культур
риса.
Число
ежегодно
выдаваемых
патентов по
рису в США
возросло со 100 в
1995 году до
свыше 600 в 2000
году.[202]
До сих
пор более 80%
испытаний
трансгенных
культур
осуществляли
в развитых
странах, где
выращивают
три четверти
генетически
модифицированных
(ГМ) растений.
Селекционная
работа
транснациональных
компаний, естественно,
ориентировалась
на
потребности
развитых
стран и коммерческий
сектор
среднедоходных
развивающихся
стран (таких
как Бразилия,
Аргентина и
Китай).
Разработка
генетических
признаков,
таких как
гербицидоустойчивость,
была, в
основном,
направлена
на
достижение коммерческих
преимуществ,
а не на поиск
характерных
свойств,
которые
принесли бы
пользу
бедным фермерам
развивающихся
стран.
Однако, сейчас
компании
стали
вводить
культуры ГМ,
которые -
хотя и
спорные, как
в развитых, так
и
развивающихся
странах -
рассматриваются
некоторыми
развивающимися
странами как
потенциально
выгодные для
них культуры
(в качестве
примера
можно
привести ген Bt,
придающий
сопротивляемость
против насекомых).[203]
Хлопок и
кукурузу с
геном Bt выращивают
теперь по
меньшей мере
в пяти развивающихся
странах, ими
могут
заинтересоваться
и другие страны,
если смогут
справиться с
проблемами
экологического
плана. Индия,
например, недавно
утвердила
высев хлопка
с геном Bt. Компании
также
предоставили
в распоряжение
развивающихся
стран
соответствующие
технологии
(например,
посредством
бесплатных
лицензий),
включая
технологию
по рису,
обогащенному
витамином A (т.н.
«Золотой рис»)
и кассаве.
Некоторые
компании
опубликовали
научные
статьи о
своих геномных
исследованиях,
но
подверглись
критике за
то, что не
оставили исходных
данных в
общественных
банках данных.
Переговоры о
внесении
данных в
общественные
банки
данных
усложнились
из-за
желания
компаний
ограничить
доступ к
областям
данных с
потенциально
наиболее
высокой
коммерческой
выгодой.[204]
Существует,
таким образом,
возможность
того, что
сельскохозяйственные
технологии,
разработанные
частным
сектором,
будут
выгодны и для
коммерческого
сектора
развивающихся
стран. Но
если зеленой
революции,
разработанной
и распространяемой
с помощью
общественного
финансирования,
не удалось
эффективно
помочь
бедным фермерам
неорошаемых
территорий, с
их разнообразной
агроэкологией,
то
маловероятно,
что это
удастся
сделать с
помощью
биотехнологических
исследований
частного
сектора. Для
этого
потребуется
больше
научных разработок
общественного
сектора,
ориентированных
на специфические
нужды таких
фермеров. В 1998
году в КГМСИ
затратили 25
млн долларов
США на такого
рода
научно-исследовательскую
деятельность,
затраты же
фирмы
«Монсанто»
составили 1.26
млрд
долларов
США.[205]
В
дополнение к
проблемам
поощрения
научно-исследовательской
деятельности,
имеющей
отношение к
бедным
фермерам,
существуют определенные
указания на
то, что
патентование
и - в
опеределенной
степени -ЗКР
сыграли роль
в
значительной
консолидации
глобальной
отрасли семян
и
сельскохозяйственных
материалов.
Эта
консолидация
происходит
благодаря
технологическим
изменениям, и
ее цель
вертикальная
и
горизонтальная
интеграция
для
отпимизации
возврата на
инвестиции в
научно-исследовательскую
деятельность
путем
усиления
контролируемого
распределения
по каналам сбыта,
включая и
каналы
дополнительных
сельскохозяйственных
материалов
(таких как гербициды).
Компании
приобретают
патентные
права для
защиты
собственных
инвестиций в
научно-исследовательскую
деятельность
и предотвращения
проникновения
в их область
других
компаний. Но
патентные
права других
компаний
точно так же
могут
помешать
собственной
научно-исследовательской
деятельности.
Например,
существует
несколько сот
перекрывающихся
патентных
прав по технологии
Bt, и по меньшей
мере четыре
компании
получили
патенты в
области Bt-трансформированной
кукурузы.[206]
Недавно
фирма
Синджента
возбудила в
США два
судебных
иска против
конкурентов,
обвинив их в
нарушении
нескольких
ее патентов,
относящихся
к указанной
технологии,
хотя компании
использовали
эти
технологии и
продавали
семена в
течение ряда
лет.[207]
Перекрестное
лицензирование[208] или
стратегические
альянсы
также могут использоваться
в качестве
механизма
преодоления
спорных
проблем
патентования,[209] но
слияние и
приобретение
компаний
могут
оказаться
наиболее
эффективным
средством
получения
свободы
действий в той
или иной
области
научно-исследовательской
деятельности.
Все эти
подходы не
только
последний
снижают
конкуренцию.
При этом
крупные
транснациональные
агрохимические
компании, с
их растущим
контролем
над
существенной
долей
фирменной
технологии,
также представляют
собой
серьезное
препятствие
на пути малых
новаторских
фирм.[210] В
1980-х годах в США
50% всех заявок
на патенты,
относящиеся
к Bt, были
представлены
университетами
и
общественным
сектором. К 1994
году в руках
независимых
биотехнологических
компаний и отдельных
лиц
было 77%
патентов, но
к 1999 у шести
крупных
компаний
(которые
превратились
в пять после
слияния
сельскохозяйственных
отделов
«АстраЗенеки»
и «Новартис» с образованием
«Синдженты)
было 67%. Более
того, растущий
контроль
этих
компаний был
подтвержден
тем фактом,
что 75% их
патентов по Bt в 1999 году
были
получены за
счет
приобретения
более мелких
биотехнологических
и семенных
компаний.[211]
Согласно
имеющимся
данным, в
развивающихся
странах
существует
аналогичная
тенденция и
происходят крайне
быстрые
процессы
слияния и
приобретения
мелких фирм
транснациональными
компаниями.
Например, в
Бразилии,
после введения
системы
защиты
культур
растений в 1997
году (но, вероятно,
также и в
связи с
ожидаемым
разрешением
на
выращивание
культур ГМ),
фирма Монсанто
с 1997 по 1999 годы
увеличила
свою долю на
рынке семян
ккурузы с 0% до
60%. Она купила
три местные
фирмы
(включая
фирму
«Каргил» в
результате
международной
сделки).
Фирмы «Дау» и
«Агрево»
(теперь
«Авентис»)
также
увеличили
свою долю
рынка за счет
приобретения
компаний.
Одна лишь
бразильская
фирма
осталась при
своих 5%
рыночной
доли.[212]
Такая
тенденция,
судя по
всему, широко
распространена
в
развивающихся
странах.[213]
Такая
скорость
концентрации
отрасли привела
к серьезной
озабоченности
по поводу ослабления
конкуренции.
Если
технологии становятся
чересчур
дорогостоящими
и не по
карману
мелким
фермерам, или
же когда не существует
альтернативных
источников новой
технологии,
особенно в
общественном
секторе,
возникает
значительная
угроза
продовольственному
снабжению.
Более того,
рост
концентрации
и конфликт
между
патентами
общественного
и
частного
секторов по
технологии
растений,
возможно,
возымел
превратный
эффект на
рост
научно-исследовательской
деятельности.
В частном
секторе в
ответ на это
были заключены
стратегические
альянсы и
произошло приобретение
компаний, но
в
общественном
секторе
проблема
заключается
в доступе к необходимым
технологиям
для
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
без нарушения
прав на ИС, а
также при
разработке
новых
технологий в
условиях, на
которых к
этим
технологиям
может быть
предоставлен
доступ.
В выводах
недавно
опубликованного
обзора
министерства
сельского
хозяйства
США говорится,
что «неясно,
стимулирует
ли текущий режим
интеллектуальной
собственности
научно-исследовательскую
деятельность
или же он
затрудняет
ее»[214]. Мы еще
вернемся к
этой теме в
Разделе 6.
Заключение
Таким
образом, у
развивающихся
стран, видимо,
имеются три
возможности
выполнить
обязательства
по защите
культур
растений по
ТРИПС. Они
могут пойти
на следующие
варианты:
·
Законодательство
типа УПОВ на
основе Конвенций
1978 или 1991 годов
(хотя теперь
они могут присоединиться
лишь к
Конвенции 1991
года)
·
Иная
форма
специфической
системы sui generis,
включающей
или не
включающей
традиционную
селекционную
работу
·
Патентование
культур
растений
В
вопросах
возможного
воздействия
патентования
мы желали бы
привлечь
внимание к моментам,
касающихся
не только
патентования
культур
растений, но
и растений и животных
в целом.
В настоящее
время нет
каких-либо
определенных
доказательств
того, что
патентная
защита
биотехнологических
изобретений
действительно
служит
интересам
большинства
развивающихся
стран,
располагающих
незначительным
технологическим
потенциалом или
не
располагающих
им вообще.
Поэтому мы бы
рекомендовали
максимальное
использование
всех
возможностей
ТРИПС для
исключения
таких
изобретений
из области
патентной
защиты. Даже
когда ТРИПС
требует
наличия
патентной защиты,
например по
микроорганизмам, у
развивающихся
стран все
равно
остается возможность
ограничить
рамки такой
защиты. В
отсутствие
общепринятого
определения
термина
микроорганизм,
у
развивающихся
стран, в
частности,
есть
возможность
принять
такое определение,
которое
ограничило
бы рамки
покрываемых
им
материалов.[215]
Из-за
патентных
ограничений
на использование
семян
бедными
фермерами и
научно-исследовательскими
организациями,
развивающиеся
страны, в
целом, не
должны предоставлять
растениеводческой
или животноводческой
патентной
защиты, как это
позволяется
по Статье 27.3(b)
соглашения
ТРИПС. Вместо
этого скорее
необходимо
продумать
иные формы
специфических
систем для
растениеводческих
культур.
Развивающимся
странам с
ограниченным
научно-техническим
потенциалом,
необходимо, в
рамках ТРИПС,
ограничить
применение
биотехнологического
патентования
в своем в
сельском
хозяйстве. По тем
же причинам
им следует
ограничительно
трактовать
определение
термина
«микроорганизм».
Те страны,
которые
стремятся
развивать
или уже располагают
биотехнологической
промышленностью,
могут
пожелать заручитьсяиметь,
в этой
области,
какимой-то
видом
патентной
защиты.
В таком
случае следуетПри
этом
разработать
конкретные
изъятия из
экслюзивных
селекционных
и
научно-исследовательских
прав.
Требуется
тщательно
продумать, в
какой мере
патентные
права
распространяются
на потомство
или
применимы к
собранному
урожаю.
Важно, чтобы
в
законодательстве
фигурировали
четкие
исключения
из патентных
прав, с тем,
чтобы
фермеры
могли использовать
семена
повторно.
Осуществляемый
в настоящее
время пересмотр
Статьи 27.3(b)
ТРИПС,
должен
стремиться
сохранить за
странами
право не
предоставлять
растениеводческих
или
животноводческих
патентных
прав, в том
числе на гены
и генетически
модифицированные
растения и
животных.
Странам
также нужно позволить
разрабатывать
у себя
специфические
режимы для
защиты своих
сельскохозяйственных
культур.
Такие режимы
должны
давать
доступ к
охраняемым
культурам
для
дальнейшей
научно-исследовательской
работы и
селекции, по
меньшей мере
обеспечивая
фермерам право
сохранять и
заново
высевать
семена, включая
возможность
неформальной
торговли и
обмена.
Ввиду
растущей
концентрации
производства
семян в руках
узкого круга
компаний, важно
укреплять и
улучшать
финансирование
научно-исследовательской
деятельности
в общественном
секторе и ее
международной
составляющей.
При этом
необходимо
ориентироваться
на нужды
бедных
фермеров,
обеспечивая
наличие в
общественном
секторе соответствующих
культур,
конкурирующих
с культурами
частного
сектора, а
также
стремиться
сохранить мировые
генетические
ресурсы
растений. Кроме
того, всем
странам
следует
рассмотреть
вопрос о
высоком
уровне
концентрации, в
частном
секторе
производства
семян в руках
небольшого
числа
компаний и в
частном
секторе, и о
том, как, в
этой связи,
воспользоваться
законодательством
по поощрению
конкуренции.
ДОСТУП
К
ГЕНЕТИЧЕСКИМ
РЕСУРСАМ
РАСТЕНИЙ И
ПРАВА
ФЕРМЕРОВ
Введение
В
соответствии
с
вышесказанным,
для будущего
сельскохозяйственной
научно-исследовательской
деятельности
важным
вопросом
является
охрана
генетических
ресурсов на
полях, в
национальных
и
международных
коллекциях, а
также
гарантированный
доступ
исследователей
на условиях,
признающих
вклад
фермеров
развивающихся
стран в
охрану, улучшение
и
предоставление
таких
ресурсов.
Основанием
для
международных
действий по
охране,
использованию
и
предоставлению
генетических
ресурсов
явилось
согласованное
в 1983 году
Обязательство
ФАО по генетическим
ресурсам
растений.
После этого,
во время
дебатов,
которые шли в
ФАО, была
затронута
концепция
Фермерских прав[216], где
было
признано, что
нет
равновесия
прав на ИС,
предоставленных
селекционерам
современных
культур
растений, и
прав фермеров,
ответственных
за поставку
растительных
генетических
ресурсов, из
которых, в
основном,
были
получены
такие
культуры.
Вторым предметом
озабоченности
стал вопрос о
соответствии
предоставленных
растительных
генетических
ресурсов,
представляющих
собой общее
наследие
всего
человечества,
частным
правам на ИС
на основе
этих ресурсов.
В 1989
году ФАО
согласилась
признать
важность этих
соображений
и включить их
в Обязательство
по
фермерским
правам,
«касающиеся
прошлого,
настоящего и
будущего
вклада фермеров
в охрану,
улучшение и
предоставление
растительных
генетических
ресурсов, в
особенности
в центрах
происхождения/
разнообразия».[217]
Фермерские
права
предполагалось
внедрить
через
Международный
фонд генетических
ресурсов
растений,
который
финансировал
бы
такого рода
деятельность,
особенно в
развивающихся
странах.
Впоследствии
ФАО
согласилась, что
«нет
несовместимости
прав
селекционеров
растений по
УПОВ
с
международными
обязательствоми»,
-
формулировка,
отражающая
продолжающуюся
неуверенность
некоторых
развивающихся
стран в
отношении того,
что нет
противоречий
между указанным
обязательством
и УПОВ.[218]
Вслед
за
согласованием
КБР в 1992 году, на
этой основе
начался
процесс
преобразования
обязательств
в договор
(МДГРРПСХ),
который был
окончательно
согласован в
2001 году.[219]
Конкретной
задачей
МДГРРПСХ
является
доступ к
генетическим
ресурсам
растений,
находящихся
у
подписавших
договор сторон,
а также для
общей пользы
- к ресурсам международной
коллекции,
признавая,
что это -
необходимые
сырьевые
материалы
для генетического
улучшения
культур, и
что многие
страны
зависят от
генетических
ресурсов, находящихся
в тех или
иных местах.
Все это представляет
собой
применение
принципов КБР
с учетом
специфических
свойств
генетических
ресурсов
растений.
Большинство
существующих
сегодня
культур
растений, в
частности,
культуры,
полученные
на основе общественных
селекционных
программ,
содержат
генетические
материалы из
многих
источников,
зачастую на
основе
генетических
материалов генных
банков,
которые сами
могут быть
самого
разного
происхождения.
МДГРРПСХ
также
признает
вклад
фермеров в охрану,
улучшение и
предоставление
таких
ресурсов, и
что этот вклад лежит в
основе
Фермерских
прав. Он
никоим
образом не
ограничивает
прав
фермеров по
своим
национальным
законодательствам
в отношении
хранения,
обмена и
продажи
выращенных у
себя семян. В
нем также
изложены права
по участию в
принятии
решений об
использовании
этих
ресурсов, и
права
справедливого
и
равноправного
получения
связанных с
этим выгод
(см. врезку 3.2).
Фермерские
права
МДГРРПСХ
оставляет
внедрение
Фермерских
прав на
полное
усмотрение
национальных
правительств
(пункт 9.2). Таким
образом,
внедрение конкретных
Фермерских
прав не
является международным
обязательством,
таким, как обязательства
по
положениям
ТРИПС.
Довод
в пользу
Фермерских
прав
сочетает аргументы
равноправия
и
экономические
аргументы.
Как
селекционеры,
так и мир
выиграют от
охраны
окружающей
среды и
развития
генетических
ресурсов
растений,
осуществляемых
фермерами, но
фермерам не
компенсируют
экономическую
ценность их
вклада.
Фермерские
права можно
рассматривать
как средство поощрения
фермеров
на
дальнейшее
предоставление
услуг по
охране
окружающей
среды и поддержанию
биологического
разнообразия.
Как уже
отмечалось,
защита
культур
растений
отличается
тенденцией
поощрять
однообразие,
снижая
биологическое
разнообразие,
тогда как
значительным
противовесом
этому как раз
и служит традиционная
фермерская
практика. Фермеров
необходимо
поддерживать
во имя того,
чтобы
сохраняемые
ими ресурсы
имели экономическую
ценность, не
признаваемую
рыночной
системой. До
некоторой
степени этому
угрожают технологические
изменения и
распространение защиты
селекционеров
растений. Более
того,
распространение
защиты
интеллектуальной
собственности
связано с
риском
ограничения
фермерских
прав на
повторное
использование,
обмен и
продажу
семян - самой
основы их
традиционной
роли в охране
окружающей
среды и
развитии.
Врезка 3.2
Фермерские
права в
МДГРРПСХ
(Статья 9)
9.1
Стороны
признают
огромный
вклад,
который
производили
и будут
производить
местные и
коренные
общины и
фермеры всех
регионов мира,
особенно в
центрах
происхождения
и
разнообразия
культур, в
охрану
окружающей
среды и
развитие генетических
ресурсов
растений,
составляющих
основу
продовольственного
и сельскохозяйственного
производства
в мире.
9.2
Стороны
согласны с
тем, что
ответственность
за реализацию
фермерских
прав, в плане
генетических
ресурсов
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства,
возлагается
на национальные
правительства.
В
соответствии
с их потребностями
и
приоритетами,
стороны должны,
в рамках
национального
законодательства,
принять
соответствующие
меры по
защите и
поощрению
фермерских
прав,
включая:
(a)
защиту
традиционных
знаний,
относящихся к
генетическим
ресурсам
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства;
(b)
право на
равное
участие в
экономических
выгодах от
использования
генетических
ресурсов растений
для
продовольствия
и сельского
хозяйства; а
также
(c)
право на
участие в
принятии
решений на
национальном
уровне по
вопросам
охраны окружающей
среды и
устойчивого
использования
генетических
ресурсов
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства.
9.3 В
рамках
соответствующих
национальных
законодательств
ни одно
положение
настоящей
статьи не
должно быть
истолковано
в смысле
ограничения
каких-либо
прав фермеров
на хранение,
использование,
обмен и продажу
собранных в
хозяйстве
семян/рассады.
Фермерские
права не
являются
правами на интеллектуальную
собственность,
но их необходимо
рассматривать
в качестве
важного
противовеса
формальным
правам
селекционеров
по ЗКР или
патентам.
Решения, касающиеся
метода использования
этих
прав на
национальном
уровне,
однако,
принимать
нелегко, что
обсуждено в
следующем
разделе в
контексте КБР.
Договор
предусматривает
создание финансового
механизма
финансирования
на основе
вкладов и
доли прибыли
от коммерческого
использования,
что позволит
внедрить
согласованные
планы и
программы
для фермеров,
«которые сохраняют
и устойчиво
используют
генетические
ресурсы
растений
для
продовольствия
и сельского
хозяйства»[220].
Многосторонняя
система
По
Договору,
страны
согласились
способствовать
доступу к
генетическим
ресурсам
растений из
согласованного
перечня важных
для
продовольственной
безопасности
культур,
перечисленных
в приложении.
Подписав
Договор,
правительства
согласились
предоставить
такие
ресурсы в
распоряжение
«Многосторонней
системы». Они
также будут
поощрять
учреждения,
не
находящиеся
под их
непосредственным
контролем,
предпринимать
аналогичные
шаги. Особо
важна
крупная
коллекция генетических
материалов
под эгидой
КГМСИ, представляющая
интерес для
развивающихся
стран; но и во
всем мире
тоже,
разумеется,
существует много
национальных
коллекций,
имеющих
важное
значение как
для развитых,
так и развивающихся
стран, а
также
хранилища генетического
разнообразия
на
фермерских полях.
В
отношении
ПНИС,
потенциально
спорной частью
Договора
является
ссылка
на защиту
ресурсов,
доступных
через
Многостороннюю
систему. В
окончательно
согласованном
варианте
Договора
говорится:
«Получатели
не будут
требовать
никаких прав
на
интеллектуальную
собственность
и прочих
прав,
ограничивающих
облегченный
доступ к
генетическим
ресурсам
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства
или к их
генетическим
компонентам
в форме,
полученной
через
Многостороннюю
систему;[221]
Данная
формулировка
является
неизбежным
дипломатическим
компромиссом,
отражающим
как желание
многих
развивающихся
стран
избежать
ограничений,
налагаемых
предоставлением
прав на ИС,
так и
отношение ряда
развитых
стран,
позволяющих
патентовать
генетические
материалы в
соответствии
с
существующими
критериями
на национальном
уровне. Решающие
слова «в
полученной
форме»
означают, что
полученные
материалы, как
таковые, не
патентуются,
но
разрешается
патентовать
модификации
(как бы их ни
определяли)
этих
материалов.
Компромиссная
формулировка
явно исключает
патентование
семян,
полученных
из семенного
банка.
Спорным,
однако, является
вопрос о том,
до какой
степени
можно получать
патенты на
выделенные
из материалов
гены. Во
время
переговоров
по Договору,
некоторые
страны сочли,
что эту
статью следует
понимать, как
запрещающую
такое патентование.
Другие
думали, что
выделенная
форма гена
(функция
которого
также
определена) отличается
от
«полученной
формы» и следовательно
должна быть
патентуемой.
Таким
образом,
формулировка
затрагивает
важный общий
вопрос о том,
каковы
правила патентования
генетических
материалов в
развитых и
развивающихся
странах. Все
это связано с
природой
изобретательного
шага,
необходимого
для
патентования,
природой
заявок на
изобретенное
использование
материалов, а
также со
степенью
ограничений,
которые
заявки могут
налагать на
использование
соответствующих
генетических
материалов.
Мы
дополнительно
обсудим этот
вопрос в
Разделе 6.
Договор
также
установил
важный
принцип, заключающийся
в том,
что любой
пользователь
материалов
подписывает
стандартное
Соглашение о
передаче материалов
(СПМ),[222], которое
будет
разработано
управляющим
советом
Договора,
включающим
условия
согласованного
в Договоре
доступа (пункт
12.3).
Обеспечивается
также раздел
выгод от любого
коммерческого
использования
материалов,
посредством
созданного
по Договору
Фонда. Это
существенно
выходит за рамки
положений по
КБР,
предлагая
конкретный
механизм
раздела
выгод на
основе многосторонних,
а не
двусторонних
договоренностей.
Развитые и
развивающиеся
страны
должны ускорить
процесс
ратификации
ФАО Договора
о генетических
ресурсах
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства.
Они должны, в
частности,
внедрить у
себя
положения этого
договора,
касающиеся:
·
отказа в
патентной
защите ПНИС
на генетические
материалы,
добытые в
рамках
многосторонней
системы в полученной
форме.
·
реализации
Фермерских
прав на
государственном
уровне,
включая (a)
защиту
традиционных
знаний по
генетическим
ресурсам
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства; (b)
равноправное
участие в
выгодах от
использования
генетических
ресурсов
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства, а
также (c)
право на
участие в
принятии, на
государственном
уровне,
решений по
вопросам
сохранения
генетических
ресурсов
растений и их
устойчивого
использования
для
продовольствия
и сельского
хозяйства.
Раздел
4
ТРАДИЦИОННЫЕ
ЗНАНИЯ И
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Человеческое
общество
всегда
создавало, совершенствовало
и передавало
знания по наследству,
от поколения
к поколению.
Такие
«традиционные
знания»[223],
зачастую,
были важной
частью культурной
самоидентификации. Традиционные
знания
играли и
играют
существенную
роль в
повседневной
жизни
огромного большинства
людей. Они
важны для
продовольственного
снабжения и
здравоохранения
миллионов
жителей
развивающихся
стран. Во многих
странах
традиционные
лекарства
обеспечивают
единственную
форму
доступного
лечения
бедных слоев
населения. В
развивающихся
странах до 80%
населения
зависит от
традиционных
лекарств для
удовлетворения
своих нужд в
лечении
болезней.[224]
Кроме того,
знания
целебных
свойств растений
стали
источником
многих
современных
медицинских
препаратов.
Как отмечалось
в Разделе 3,
использование
и развитие местными
фермерами
культур
растений,
обмен и
распространение
таких
культур, а
также связанные
с ними
знания,
играют
важную роль в
сельском
хозяйстве
развивающихся
стран.
Международное
сообщество,
однако, лишь
недавно
признало и
приступило к
охране традиционных
знаний. В 1981
году ВОИС и ЮНЕСКО
приняли
типовое
законодательство
по фольклору.
В 1989 году ФАО
ввела
Международное
обязательство
по
генетическим
ресурсам
растений и понятие
фермерских
прав, а в 1992 году
Конвенция о
биологическом
разнообразии
(КБР) подчеркнула
необходимость
поощрения и
сохранения
традиционных
знаний.[225]
Несмотря на
все эти
усилия
последних
двух
десятилетий,
все еще не
существует
окончательного
общепринятого
решения
вопроса
защиты и
поощрения
традиционных
знаний.
В
КБР также
излагаются
принципы
доступа к генетическим
ресурсам и
связанным с
ними знаниям
и раздела
выгод,
полученных от
такого
доступа.
Поэтому мы рассмотрим
соотношение
между
системой ИС и
принципами
КБР по
доступу и
разделу выгод
в контексте
как знаний
традиционных
и прочих так
и
генетических
ресурсов.
Мы также
рассмотрим
здесь - хотя, в
целом, это
отдельный
вопрос -
играют ли
Географические
названия (ГН)
какую-то роль
в
стимулировании
развития, а
также
проблемы,
имеющие
отношение к
развивающимся
странам в
свете текущих
обсуждений
этого
вопроса в
Совете ТРИПС.
Таким
образом, в
этом разделе
мы проанализируем
следующие
вопросы:
·
Какова
природа
традиционных
знаний и
фольклора, и
что мы
понимаем под
их защитой?
·
Как
использовать
существующую
систему ИС
для защиты и
поощрения
традиционных
знаний?
·
Какие
модификации
системы ИС
могут улучшить
ее защиту?
·
Как
может
система ИС
поддержать
принципы доступа
и раздела
выгод,
закрепленные
в Конвенции о
биологическом
разнообразии
(КБР)?
·
Важна
ли защита
географических
названий для
развивающихся
стран?
ТРАДИЦИОННЫЕ
ЗНАНИЯ
Справочная
информация
Несколько
связанных с
традиционными
знаниями
случаев
привлекли
международное
внимание. В
результате,
вопрос
традиционных
знаний был
вынесен на повестку
дня общей
дискуссии
вопросов интеллектуальной
собственности.
Указанные случаи
были связаны
с так
называемым
«биопиратством»
(см. Врезки 4.1 и 4.2).
Примеры
куркуры, дерева
«ниим» и
напитка
«аякуаска»
иллюстрируют
возможные
вопросы
патентной защиты
изобретений,
относящихся
к общеизвестным
традиционным
знаниям. В
этих случаях
были выданы
недействительные
патенты, потому
что
патентные
эксперты не
были знакомы
с соответствующими
традиционными
знаниями. В
другом
случае
патент был
выдан на
кактус вида
«Худиа». Здесь
вопрос
заключался
не в том, выдавать
или не
выдавать
патент, а
скорее в том, должны
ли местные
жители
народности
«сан», которые
сохранили
традиционные
знания, лежащие
в основе
изобретения,
получить справедливую
долю выгод от
коммерческого
использования.
Врезка 4.1
Биопиратство
Принятого
определения
«биопиратства»
нет. Группа
действия по
эрозии,
технологии и
концентрации
(Группа ЭТК)
определяет
его как
«захват
знаний и
генетических
ресурсов
сельского
хозяйства и
коренных
общин
отдельными
лицами или
учреждениями,
стремящимися
к
исключительному
монопольному
контролю
(обычно, это
патентные
права или
права
селекционеров)
над этими
ресурсами и
знаниями».
Следующие
случаи
считаются
«биопиратством»:
a) Предоставление
«неправильного»
патента. Это
патенты на
изобретения,
которые не
являются ни
новыми, ни
изобретательными,
с точки
зрения
общеизвестных
традиционных
знаний. Такие
патенты
могут быть
предоставлены
по ошибке,
при
рассмотрении
патентной
заявки, либо
просто
потому, что
патентный
эксперт не
имел доступа
к таким
знаниям. Это
могло
случиться
из-за того, что
знания
записаны, но
не доступны
патентному
эксперту,
либо потому,
что знания
устные.
Пытаясь
решить эти
проблемы,
ВОИС развернул
инициативу
документации
и классификации
традиционных
знаний.
b) Предоставление
«правильного»
патента.
Патент на
изобретения,
основанные
на традиционных
знаниях или
генетических
ресурсах той или
иной общины,
может быть
предоставлен
и по праву, в
соответствии
с
национальным
законодательством,
но можно
утверждать,
что это
«биопиратство»,
на следующих
основаниях:
·
Чересчур
низкие
стандарты
патентования.
Патентуют,
например,
изобретение,
которое является
просто какой-то
находкой
среди
местной
общины. С
другой стороны,
национальный
режим
патентования
(например, в
США) может не
признавать
некоторых
форм
общественного
раскрытия
традиционных
знаний в
качестве
предыдущих
работ.[226]
·
Даже если
патент и
представляет
собой настоящее
изобретение,
как бы оно ни
было означено,
возможно, что
не было
получено
предварительного
информированного
согласия
(ПИС)[227]
общины,
предоставившей
эти знания
или ресурсы,
и не
обговорен
вопрос
распределения
выгод
коммерческого
использования
для вознаграждения
общины в
соответствии
с принципами
КБР.
Врезка 4.2
Спорные
патенты в
случаях
традиционных
знаний и
генетических
ресурсов
Куркума
Куркума
(Curcuma longa) -
растение
семейства
имбиревых, с
желтыми корнями,
используемое
в Индии как
кулинарная
приправа. Оно
также
обладает
свойствами, позволяющими
использовать
его в качестве
эффективного
ингредиента
медицинских препаратов,
косметики и
красителей.
Как медицинский
препарат, его
традиционно
используют
для
заживления
ран и против
сыпи.
·
В 1995 году
двум
индийским
гражданам,
работавшим в
медцентре
университета
Миссисипи,
был выдан
патент США за
номером 5401504 на
«использование
куркумы для
заживления
ран».
·
Индийский
Совет
научных и
промышленных
исследований
(СНПИ)
потребовал
от Бюро патентов
и торговых
знаков США
пересмотреть
патент.
·
Совет
утверждал,
что куркуму
использовали
тысячелетиями
для
заживления
ран и против
сыпи, так что
ее
использование
в медицинских
целях,
следовательно,
новым не
было.
·
Это
подтверждалось
документами,
включая упоминание
этих
традиционных
знаний в
древних текстах
на санскрите
и в работе,
опубликованной
в 1953 году в
«Журнале
индийской
медицинской
ассоциации».
·
Несмотря
на аргументы
патентообладателей,
Бюро
патентов и
торговых
знаков США
поддержало
возражение
СНПИ и отменило
патент.
Вывод:
Случай с
куркумой был
первым
случаем успешного
оспаривания
патента,
основанного
на
традиционных
знаниях в
развивающихся
странах. По
оценкам
правительства
Индии, юридические
затраты
составили
порядка 10000 долларов
США.
Ниим
Ниим (Azadirachta indica)
дерево,
растущее в
Индии и
других
странах южной
и
юго-восточной
Азии. Сейчас
его выращивают
в
тропической
полосе из-за
присущих ему
свойств
натурального
лечебного
средства, а
также для
использования
в качестве
пестицида и
удобрения. Вытяжки
из
дерева ниим
можно использовать
против сотен
видов
вредителей и
грибковых
заболеваний
продовольственных
культур, а
извлекаемое
из семян
масло используют
для лечения
простуд и
гриппа; считается,
что добавки к
мылу
помогают
против малярии,
кожных заболеваний
и даже
менингита.
·
В 1994 году
ЕПВ выдало
европейский
патент № 0436257 американской
корпорации W.R. Grace и
министерству
сельского
хозяйства
США на «метод
контроля
грибковых
заболеваний
растений с
помощью
гидрофобного
состава, полученного
из масла
ниим».
·
В 1995 году
группа
международных
неправительственных
организаций
и
представителей
индийских
фермеров
выдвинули
возражения против
выдачи
патента.
·
Они
представили
доказательства
того, что вытяжки
из указанных
семян
столетиями
использовались
в Индии для
борьбы с
грибковыми
заболеваниями
и для защиты
сельскохозяйственных
культур, так
что
изобретение
в EP257 не
было новым.
·
В 1999 году
ЕПВ решило,
что, в
соответствии
с представленными
доказательствами,
выяснилось,
что
«все
характеристики
в формуле изобретения
были
общеизвестны
до патентной
заявки
и
рассмотренный
[патент] не
включает
изобретательного
шага».
·
Патент
был отменен
ЕПВ в 2000 году.
Айахуска
В бассейне
реки
Амазонки
племенные
шаманы
поколениями
перерабатывали
кору Banisteriopsis caapi для
изготовления
церемониального
напитка
«айахуска».
Шаманы
использовали
это средство
(означающее
«вино души») в
религиозных церемониях
и для
диагностики
и лечения болезней,
«вызывания
духов» и
предсказания
будущего.
Американец
Лорен Миллер
в июне 1986 года
получил
патент США № 5751,
предоставивший
ему права на
вид B. caapi , который
он назвал «Да
вайн». В
патентном
описании
было сказано,
что «растение
было им открыто
в саду дома,
расположенного
в тропическом
лесу на
Амазонке, в
Южной
Америке». Патентообладатель
утверждал,
что «Да вайн»
представляет
собой новый
вид B. caapi,
главным
образом,
ввиду другой
расцветки цветка.
Координационный
орган
организаций
коренных
жителей
амазонского
бассейна (COICA),
представляющий
свыше 400 групп
коренного населения,
узнал об этом
о патенте в 1994
году. По его
просьбе,
Центр
международного
экологического
законодательства
(ЦМЭЗ)
потребовал
пересмотреть
патент. ЦМЭЗ
заявил, что, в
результате
обзора
предыдущих
работ, было
установлено,
что «Да вайн»
не нов
и не имеет
отличительных
характеристик.
Он также
утверждал,
что
предоставление
патента идет
вразрез с
общественными
и моральными
аспектами
Патентного
Акта ввиду
того, что у
коренных
жителей
всего
амазонского
региона Banisteriopsis caapi
считается
священным
растением.
ЦМЭЗ
представил
много
материалов, и
в ноябре 1999 года
Бюро
патентов и
торговых
знаков США
отвергло
патентную
формулу,
согласившись
с
представленными
ЦМЭЗ
материалами
о том, что
патент не
имеет
отличительных
характеристик.
Бюро заявило,
что выдавать
патент было
нельзя.
Однако
последующие
доводы патентообладателя
убедили Бюро
принять обратное
решение,
объявив в
начале 2001 года
патент
действительным.
Вывод:
Из-за даты
патентной
регистрации,
на него не
распространялись
действующие
в США новые
правила о
двустороннем
пересмотре.
ЦМЭЗ поэтому
не имел права
обсуждать
доводы
патентообладателя,
приведшие к
признанию
патента
действительным.
Кактус
худиа
Народность
сан,
проживающая
в пустыне Калахари
на юге
Африки,
традиционно
использовала
в пищу кактус
худиа, подавляющий,
во время
продолжительной
охоты, жажду
и голод. В 1937
году
голландский
антрополог, изучавший
эту
народность,
обратил
внимание на
использование
ими этого
вида кактуса.
Ученые
южноафриканского
Совета
научных и
промышленных
исследований
(СНПИ) недавно
обнаружили
указанную
работу и
стали изучать
растение.
В 1995
году СНПИ
запатентовал
элемент (P57),
подавляющий
аппетит. В 1997
году СНПИ
выдал лицензию
на P57
британской
биотехнологической
компании Phytopharm. В 1998 году
фармацевтическая
компания Pfizer купила у Phytopharm права на
разработу и
сбыт P57в
качестве
потенциального
препарата
для похудания
и лечения
ожирения (на
рынке, объем
которого
превышает 6 млрд
фунтов), за 32
млн долларов
США, покрыв
этой суммой
лицензионные
и поэтапные
платежи.
Услышав
о возможном
использовании
их традиционных
знаний,
народность
сан стала
угрожать СНПИ
судом за
«биопиратство»,
утверждая,
что
традиционные
знания были
украдены, и
что СНПИ
не выполнил
правил
Конвенции о
биоразнообразии,
требующей
предварительного
информированного
согласия
заинтересованных
сторон,
включая
первооткрывателей
и пользователей.
Фирма Phytopharm провела
расследование,
но не нашла
«владельцев
знаний».
Оставшиеся
представители
народности
сан,
по-видимому,
жили в то
время в палаточном
лагере в 1500
милях от
племенных
земель. СНПИ
утверждал,
что
собирался
проинформировать
представителей
народности
сан о научно-исследовательской
деятельности
и разделе
выгод, но что
сначала надо
было убедиться
в
эффективности
препарата.
В
марте 2002 года
между СНПИ и
представителями
народности
сан было достигнуто
взаимопонимание,
в
соответствии
с которым эта
народность
признается
хранителем
традиционных
знаний о
кактусе худиа
и будет
получать
долю будущих
лицензионных
платежей.
Хотя община
сан,
вероятно, получит
лишь
незначительную
долю,
потенциальный
размер рынка
означает, что
суммы могут
быть значительными.
Лекарственный
препарат
вряд ли
появится на
рынке до 2006
года, и может
еще не пройти
клинических
испытаний.
Вывод: Этот
случай, судя
по всему,
показывает,
что при
наличии
доброй воли
сторон можно
добиться
взаимоприемлемого
решения о
доступе и
разделе
выгод.
Важность
интеллектуальной
собственности
для
получения
будущих выгод
была
признана
всеми,
включая
народность
сан.
Отчасти
в результате
этих,
получивших
широкую
огласку,
случаев,
многие
развивающиеся
страны,
владеющие
традиционными
знаниями, и
организации,
развернувшие
кампанию,
оказывают
давление на
многочисленных
форумах с
тем, чтобы
добиться
лучшей защиты
традиционных
знаний. Это
давление привело,
например, к
формированию
Межправительственного
комитета по
интеллектуальной
собственности
и
генетическим
ресурсам,
традиционным
знаниям и
фольклору
при ВОИС.
Защита традиционных
знаний и
фольклора
обсуждается также
в рамках КБР
и в других
международных
организациях,
таких как
ЮНКТАД, ВОЗ,
ФАО и
ЮНЕСКО.[228]
Кроме того,
в
министерской
Декларации ВТО,
принятой в
Дохе,
подчеркивалась
необходимость
дальнейшей
работы в Совете
ТРИПС по
защите
традиционных
знаний.[229]
Природа
традиционных
знаний и цель
их защиты
Как
можно
определить
традиционные
знания? В то
время, как
огромное
большинство
знаний -
старые, в том
смысле, что
их
передавали
из поколения
в поколение,
такие знания
непрерывно
совершенствуют,
получая на их
основе новые
знания, по
аналогии с
современным
научным процессом,
состоящим не
из
внезапного
скачка
вперед, а,
скорее, из
непрерывных
инкрементальных
улучшений.
Один из
докладчиков
на нашей
конференции
предложил
заменить термин
фольклор
более
подходящим
определением
« культурное
самовыражение»,
отражающим
живые,
функциональные
традиции, а
не своеобразные
сувениры
прошлого. В
то время, как
большинство
традиционных
знаний и
фольклор передаются
устным путем,
такие,
например, традиционные
знания, как
текстильный
дизайн или
медицинские
знания
«Аюрведа» -
кодифицированы.
Группы,
владеющие
традиционными
знаниями,
очень
разнообразны
хранителями
знаний могут
быть и
отдельные
лица и группы
и общины.
Такие общины
могут быть
коренными, проживающими
на той или
иной
территории,
либо
наследниками
более
поздних
поселенцев.
Природа
знаний также
бывает
разной,
включая, например,
литературные,
художественные
или научные
работы,
песни, танцы,
лечебная практика
и
сельскохозяйственная
технология и
методы.
Несмотря
на то, что
выдвигался
целый ряд определений
традиционных
знаний и фольклора,
общепринятого
определения
какого-либо
из этих
терминов
пока не
существует.
Трудность
возникает не
только ввиду
широких
рамок
традиционных
знаний, но
также и ввиду
некоторый
неясности
того, что, по сути,
понимают под
«защитой» и
какова ее цель.
Ее
определенно
нельзя
непосредственно
приравнивать
к «защите» в
смысле ИС. В
отчете, написанном
в результате
ряда
ознакомительных
поездок, ВОИС[230]
предложил
подытожить
вопросы, беспокоящие
владельцев
традиционных
знаний, следующим
образом:
·
беспокойство
по поводу
утраты
традиционного
образа жизни и
традиционных
знаний,
нежелание
молодежи
этих общин
продолжать
традиционную
практику
·
беспокойство
по поводу
отсутствия
уважения к
традиционным
знаниям и владельцам
традиционных
знаний
·
беспокойство
по поводу
использования
традиционных
знаний, без
раздела
выгод от их
использования,
или использование
их в
оскорбительной
манере
·
отсутствие
признания
того, что
необходимо
сохранять и
поощрять
дальнейшее
использование
традиционных
знаний
В
других
источниках
более четко
классифицируются
эти и прочие
возможные
причины
защиты
традиционных
знаний:
·
соображения
равноправия
хранитель
традиционных
знаний
должен
получать
справедливое
вознаграждение,
когда
традиционные
знания дают
коммерческиую
выгоду
·
заботы,
связанные с охраной
окружающей
среды
защита
традиционных
знаний
вносит вклад
в дело более
широкой
задачи
охраны
окружающей
среды, биоразнообразия
и устойчивой
сельскохозяйственной
практики
·
сохранение
традиционной
практики и
культуры
защита
традиционных
знаний
используется
для
привлечения
внимания к
знаниям и
людям,
которые ими
владеют,
будь-то внутри
общины или за
ее пределами
·
предотвращение
неправомерного
овладевания
знаниями
неполномочными
сторонами и предотвращение
биопиратства
·
поощрение
использования
и подчеркивание
важности
для
развития.[231]
Вряд
ли можно
ожидать
удовлетворения
всех этих
запросов и
задач в
рамках
одного решения.
Тип мер,
требуемых
для
предотвращения
неправомерного
завладения,
может отличаться
и даже быть
несовместимыми
с шагами, необходимыми
для
поощрения
более
широкого
использования
традиционных
знаний.
Здесь, почти
определенно,
потребуются
комплексные
взаимодополняющие
меры, многие
из которых
выходят за
рамки
вопроса
интеллектуальной
собственности.
Подоплекой
этих дебатов,
по сути,
может стать
более общий
вопрос о том,
какое, например,
положение
коренные
общины
занимают в
экономике и
обществе
своих стран,
а также вопрос
о доступе к
землям
традиционного
заселения. В
этом смысле,
обеспокоенность
вопросами
сохранения
традиционных
знаний и продолжения
традиционного
образа жизни
владельцев
таких знаний
может
являться симптомом
проблем, с
которыми
такие общины
сталкиваются
при давлении
извне.
Мы,
однако,
собираемся
ограничить
наш анализ
вопросами о
том, как
система
интеллектуальной
собственности
могла бы
помочь найти
ответы на
такого рода
аспекты,
вызывающие
озабоченность.
По этому
поводу
написано
немало
материалов, и
многие
международные
организации,
особенно
ВОИС, начали
рассматривать
вопрос о том,
сможет ли
существующая
система
интеллектуальной
собственности
сыграть
здесь
какую-то роль,
либо здесь
потребуются
новые формы защиты.
Руководство
дебатами по
традиционным
знаниям
В
соответствии
с
вышесказанным,
многочисленные
организации,
в том числе
ВОИС, КБР, ЮНКТАД
и ВТО,
занимаются
обсуждением
защиты
традиционных
знаний. Такие
дебаты
совершенно
справедливо
сосредоточиваются
на понимании
вопроса, а не
на разработке
международных
норм. Лишь
при более
глубоком
понимании и в
рамках более
широкого практического
опыта на
национальном
и региональном
уровнях
можно
реально
приступить к
разработке
международной
системы
защиты традиционных
знаний. Во
избежание
ненужного дублирования,
важно,
однако, чтобы
все организации,
рассматривающие
данный
вопрос, работали
совместно;
следует
также
сделать все
возможное
для того,
чтобы на
дебатах было
представлено
как можно
больше
разнообразных
точек зрения.
В этом
отношении,
как
выяснилось,
такая
организация,
как ВОИС,
занимающаяся
исключительно
проблемами
интеллектуальной
собственности,
не является,
возможно,
самым подходящим
форумом для
рассмотрения
традиционных
знаний во
всех их
аспектах.[232] Мы
считаем, однако,
что, вероятно,
нет единой
организации,
которая
имела бы
возможность,
экспертные
знания и
средства,
необходимые
для решения
всех
аспектов традиционных
знаний. Наша
точка зрения
заключается
в том, что для
защиты,
сохранения и
поощрения
традиционных
знаний
потребуется
комплекс
различных
мер, причем
лишь
некоторые из
них будут относиться
к ИС.
В настоящее
время многого
можно
достичь на
начальных
этапах
дебатов о традиционных
знаниях, обсуждаяполезно
обсуждать
указанные
вопросы на
ряде форумов,
не забывая,
однако,
вырабатывать
последовательный
подход,
избегая
дублирования.
Использование
существующей
системы ИС для
защиты и
поощрения
традиционных
знаний
Недавно
появились
примеры того,
как можно
применять
существующую
систему
интеллектуальной
собственности
в целях
коммерческого
использования
традиционных
знаний или в
целях
предотвращения
злоупотреблений
в этой
области.
Например,
художники-аборигены
и жители
островов в
проливе
Торреса в
Австралии
получили
национальную
сертификацию
торгового знака.[233]
Как и другие
торговые
знаки, такой
сертификационный
знак или знак
аутентичности
предназначен
для помощи с
продажей предметов
искусства и
культуры и
для предотвращения
вводящей в
заблуждение
продажи
изделий, не произведенных
аборигенами.
В
недавно
приведенных
обзорах
существующей
защиты
традиционных
знаний и
фольклора
некоторые
страны
привели
дополнительные
примеры того,
как
инструменты
ИС используются
для
поощрения
защиты
традиционных
знаний и
фольклора.[234]
Сюда входит
и
использование
в Канаде
авторских
права для
защиты
традиционный
изделий,
таких как
маски,
тотемные
столбы и
звукозаписи
артистов-аборигенов;
использование
промышленного
дизайна для
защиты
внешнего
вида таких
предметов,
как головные
уборы и ковры
в Казахстане,
и
использование
географических
названий для
защиты таких
традиционных
продуктов,
как спиртные
напитки,
соусы и чай в
Венесуэле и
Вьетнаме.
Возможность
неограниченного
продления сроков
торгового
знака и
коллективного
владения
такими
правами указывает
на то, что они
лучше всего
подходят для
защиты
традиционных
знаний. То же
относится и к
географическим
названиям,
которые
могут
использоваться
для защиты
традиционных
продуктов
или
прикладного
искусства, если
их особые
свойства
можно
приписать какому-то
географическому
региону.
Торговые
знаки и
географические
названия, однако,
могут лишь
предотвращать
использование
охраняемых
знаков и
названий, без
защиты этих
знаний и
соответствующей
технологии.
Другие права
на ИС,
особенно те,
которые
требуют элемента
новшества,
или период
защиты
которых по
праву
ограничен,
вероятно
менее применимы
для защиты
традиционных
знаний. Тем не
менее, из
вышеуказанных
и других
научно-исследовательских
работ
следует, что
существующие
ПНИС играют
определенную
роль в защите
традиционных
знаний.
Насколько
существенной
будет эта
роль -
покажет
будущее. Из опыта
в других
областях
можно
заключить, что
воздействие
может
оказаться
незначительным,
причем, не в
последнюю
очередь, из-за
высоких
затрат на
получение
прав и
правоприменение.
Если даже
большинство
малых компаний
развитых
стран
считают систему
интеллектуальной
собственности,
особенно
патентную
систему,
малопривлекательной,[235] то,
по-видимому,
маловероятно,
что местные общины
развивающихся
стран или
отдельные
лица в таких
общинах
смогут
получить в ее
рамках
какие-то существенные
преимущества
или выгоды.
Специфические
формы защиты (sui generis) традиционных
знаний
Некоторые
страны уже
решили, что
существующая
система
интеллектуальной
собственности
сама по себе
не сможет адекватно
защитить
традиционные
знания. Ряд таких
стран
предпринял
или
предпринимает
шаги по
введению
специфических
(sui generis) форм
защиты.[236]
На
Филиппинах
было принято
законодательство
и
рассматриваются
дополнительные
меры[237]
предоставления
коренным
общинам прав
по традиционным
знаниям. Эти
права
распространяются
на контроль
доступа к
землям, биологическим
и
генетическим
ресурсам и
знаниям,
связанным с
такими
ресурсами.
Доступ других
сторон будет
основан на
Предварительном
информированном
согласии
(ПИС) общины,
получаемом в
соответствии
с законами, основанными
на обычаях. Любые
выгоды на
основе
генетических
ресурсов или
соответствующих
знаний
распределяются
равноправно.
Законодательство,
однако, стремится
сохранить свободный
обмен
биоразнообразием
среди местных
общин,
обеспечив
такое
положение, при
котором
коренные
общины
смогут
принимать
участие в
выработке
решений на
всех уровнях.
В то
время, как
основной
задачей
указанных законодательных
инициатив
является признание,
защита и
поощрение
прав общин и
коренных
жителей,
включая все
то, что
относится к
биологическим
ресурсам и
связанным с
ними
традиционным
знаниям, в
них также
признается
потенциал
использования
таких ресурсов.
Законодательство
Гватемалы,
например, стремясь
сохранить и
поощрить
более
широкое использование
традиционных
знаний, распространило
государственную
защиту на выражение
национальной
культуры,
включая, например,
медицинские
знания и
музыку.[238]
По
гватемальскому
законодательству
такое
выражение
национальной
культуры
нельзя
продавать
или получать
за него
вознаграждение.
Таким образом,
на
национальном
уровне
пробуют
разные типы
моделей,
стремящиеся
приспособить
законодательство
к местной
практике и потребностям.
Особо
важным
является
вопрос о рамках,
в которых
любая форма
защиты
признает законы,
основанные
на обычаях,
давших почву
развитию
соответствующих
знаний. Такие
страны, как
Бангладеш, и
организации,
как АС[239],
рассматривают
вопрос о
введении
специфического законодательства
sui generis для
обеспечения
общинных
прав на
биологические
ресурсы и
связанные с
ними
традиционные
знания,
стараясь
расширить
признание
культуры, обычаев
и практики
общин.
Специфическая
система
защиты на
Филиппинах
также учитывает
законы,
основанные
на обычаях..
Австралийский
Федеральный
Суд
рассмотрел
соответствие
основанных
на обычаях
аборигенных
законов и
практики в
случаях
нарушений
защиты авторских
прав. Хотя
Суд вынес
решение о
том, что не
смог
«признать
нарушений
прав владения,
которые, по
аборигенным
законам,
связаны с традиционными
владельцами
рассказов о
снах и
образах,
используемых
в
произведениях
искусства
настоящих
заявителей»,
при рассмотрении
вопроса о
компенсации
суд все же
учел ущерб,
нанесенный
художникам-аборигенам
и их
культурной
среде.[240] В
то время, как
такого рода
решения дают
определенную
степень признания
основанным
на обычаях
законодательствам,
они, по
мнению
некоторых
кругов, явно
недостаточны.
Во время
наших консультаций
по этому
вопросу
несколько
человек
призывали
расширить
степень
признания законов,
основанных
на местных
обычаях.[241]
Признание
основанного
на обычаях
законодательства,
связанного
или не
связанного с
традиционными
знаниями,
затрагивает
вопросы,
выходящие за
рамки
данного
отчета. Тем
не менее, мы
считаем, что
основанное
на обычаях
законодательство,
относящееся
к
традиционным
знаниям,
необходимо
уважать и, по
возможности,
шире
признавать.
Необходимо
оказывать
поддержку
дальнейшей
работе в этом
направлении,
что,
например,
поручила
сделать
недавно проведенная
6-ая
конференция
сторон по
КБР.[242]
Удастся
ли таким
национальным
системам
оказать
влияние на
развитие
достаточно
общих характеристик,
способствующих
разработке
международной
специфической
системы, - покажет
будущее.
Следует
признать, что
существует
постоянное
давление в
пользу создания
такой международной
системы, как
было недавно
подчеркнуто
на встрече
Группы 15
развивающихся
стран.[243]
При широком
наборе
материалов и
доводов в пользу
«защиты»
традиционных
знаний, единая
общая
система их
защиты sui generis может
оказаться
чересчур узкой
и специфичнойнебездостаточно
гибкойи
для
реагирования
на местные
запросы.
Как мы
уже
упомянули,
способность
защитить,
поощрить,
стимулировать
и
использовать
традиционные
знания не
обязательно
зависит от
существования
прав на ИС.
Сотрудничество,
например, с
местными
новаторами и
предпринимателями
может
оказаться
гораздо
более
реальным решением.
При любых
мерах и
способах
такое использование,
вероятно,
привлечет
внимание к
традиционным
знаниям и
местным общинным
инновациям,
поощряя
более
активное участие
общинной
молодежи, что
еще более
вероятно,
если налицо
будут
ощутимые
экономические
выгоды. Важно,
однако,
понимать, что
не все члены
общины,
владеющие
традиционными
знаниями, пожелают
использовать
их знания
подобным образом.
Один из
участников
наших
встреч-семинаров,
индеец из
Перу,
подчеркнул в
разговоре с
Комиссией
именно этот
аспект. Для
многих
местных
общин,
объяснил он,
понятие
богатства
полностью
отличается
от западной
концепции.
Для таких
общин важны
сохранность
и уважение к
традиционным
знаниям и
основанным
на обычаях
законах, а не
денежная
выгода. Он
также
отметил, что
у владельцев
традиционных
знаний,
по-видимому,
уже
сложились весьма
нереалистичные
ожидания о
возможной
экономической
ценности их знаний.
Подобные
ожидания,
разумеется,
возникают в
результате
таких
громких
случаев, как
например, случай
кактуса
«Худиа» (см.
Врезку 4.2).
Неправомерное
владение
традиционными
знаниями
По самой
своей
природе
традиционные
знания
передаются в
устном, а не
письменном
виде, что
создает
особые
проблемы,
когда некто,
не
уполномоченный
на это
владельцем
знаний,
пытается
добиться
соответствующих
прав на ИС. В
отсутствие
доступных
письменных
записей,
патентный
эксперт в
другой стране
не в
состоянии
получить
доступ к документации,
ставящей под
сомнение
новизну и изобретательность
заявки на
основе
традиционных
знаний.
В такой
ситуации для
истца
(будь-то сам
владелец
знаний или
его представители)
единственный
выход
выдвинуть своевременные
возражения
против
предоставления
патента либо
после его
предоставления
там, где есть
соответствующее
национальное
законодательство.
Так,
например,
правительство
Индии
добилось
отмены
патента на
рис «басмати»
(см. врезку 4.5
ниже) и
куркуму в США
.
Существование
административных
и квазиюридических
процедур
опротестовывания
патентов и их
пересмотра
помогло
добиться
отмены указанных
патентов. В
отсутствие
же таких процедур
приходится
прибегать к
услугам судов,
что влечет за
собой
соответствующие
издержки и
затраты
времени. Даже
при наличии
таких
процедур
развивающимся
странам крайне
сложно и
дорого
осуществлять
отслеживание
и контроль за
предоставлением
ПНИС в разных
странах мира
и выдвигать
против них
соответствующие
возражения.
Далее в
настоящем
разделе мы
предлагаем
возможные
пути содействия
контролю за
предоставляемыми
патентами на
изобретения,
основанные
на
биологических
материалах и
связанных с
ними знаниях.
Не
следует
предоставлять
патенты на
традиционные
знания,
которые уже
общеизвестны.
Проблематичность
этого
вопроса
связана с
тем, что
такие знания,
как правило,
не документированы,
а если и
документированы,
то вряд ли доступны
патентному
эксперту. В
частности, информацию
о
традиционных
знаниях вряд
ли можно
обнаружить
среди
обычной
информации, с
которой
работают
патентные
ведомства
при анализе
элементов
новизны и
изобретательности.
Для решения
этой
проблемы
ВОИС и ряд
развивающихся
стран, во
главе с
Индией и
Китаем,
стремятся
разработать
цифровые
библиотеки
традиционных
знаний (см.
врезку 4.3). В них будет
не только
детальное
описание значительных
объемов
общеизвестных
традиционных
знаний, но и
будут учтены
международные
классификационные
стандарты
(система Международной
патентной
классификации
(МПК) ВОИС) с
тем, чтобы
такие данные
были легко
доступны
патентным
экспертам.
Врезка 4.3
Цифровая
библиотека
традиционных
знаний (ЦБТЗ)
точка зрения
Индии
В 1999
году по
следам
успешной, но
дорогостоящей,
тяжбы, в
результате
которой
Индии удалось
оспорить
право на
предоставленные
в США
патентов на
куркуму и
басмати, Индийским
национальным
институтом
научных коммуникаций
(NISCOM) и Индийским
ведомством
по системам
медицинских
препаратов и
гомеопатии (ISM&H)
было принято
решение
приступить к
сотрудничеству
над
созданием
Цифровой
библиотеки
традиционных
знаний (ЦБТЗ).
Проект
ЦБТЗ был
сначала
нацелен на
документацию,
в цифровой
форме,
общеизвестных
(фигурирующих
в соответствующей
литературе)
знаний по
аюрведе (индийской
традиционной
медицине). В базу
данных
войдет
информация,
состоящая,
примерно, из 35000
так
называемых
«слоков»
(стихов и прозы)
и рецептов, и
ожидается,
что на интернет-сайте
будет около 140000
страниц,
посвященных аюрведе.
Эти данные
будут
опубликованы
на сайте на
нескольких
языках
(английский,
испанский,
немецкий,
французский,
японский и хинди).
Классификация
ресурсов
традиционных
знаний (КРТЗ)
новаторская
классификационно-структурная
система,
рассчитанная
на
систематизацию,
распространение
и вывод
информации
цифровой
библиотеки традиционных
знаний. КРТЗ
основана на
Международной
патентной
классификации
(МПК), когда
информация
классифицируется
по разделам,
классам,
подклассам,
группам и
подгруппам,
для легкости
использования
ее
международными
патентными
экспертами.
Здесь,
однако,
информация о
традиционных
знаниях
определена детальнее
и точнее,
например,
путем
расширения
одной группы
МПК (AK61K35/78,
относящейся
к целебным
растениям),
до 5000 подгрупп.
ЦБТЗ
придаст
правомочность
существующим
традиционным
знаниям.
Облегчив
патентным
экспертам
поиск
информации о
традиционных
знаниях, она
поможет
предотвратить
предоставление
патентов (как
в вышеуказанных
случаях
куркумы и
дерева ниим),
когда
предметом
заявки является
общеизвестная
информация.
В ВОИС
также
проводится
работа над
такими библиотеками.
Группа
задания,
включающая представителей
Китая, Индии,
Бюро патентов
США и ЕПВ,
рассматривает
возможность
сочетания
таких библиотек
с
существующими
орудиями
поиска,
которыми
пользуются
патентные
бюро.
ВОИС
также
рассматривает
степень
нынешней
доступности
информации о
традиционных
знаниях на
Интернете.
Начальные
данные ВОИС
говорят о
том, что
объемы такой
информации
значительны
и постоянно
растут.
Однако
большая
часть данных
находится не
в той форме, в
какой патентным
экспертам
легко
осуществлять
их поиск и
использование.[244]
Более
обширная
документация
традиционных
знаний может
не только
оказаться
полезной и
предотвратить
неоправданную
выдачу
патентов, но
также что
еще важнее
поможет
внести вклад
в сохранение,
поощрение и
возможное
использование
традиционных
знаний. Здесь
важно, чтобы
процесс
документации
не был
предвзятым в
отношении
возможных
ПНИС на
основе
документированных
материалов.
Фонд
национальных
инноваций
Индии -
пример
попытки
найти
решение такого
рода
вопросов.[245] В
отношении
многих баз
данных, в ВОИС,
в самой
организации
и в ряде
развивающихся
стран,
вызывает
озабоченность
вопрос о том,
вводится ли
соответствующая
информация
после
получения
предварительного
информированного
согласия
владельцев
знаний. Во
время
дебатов в
ВОИС по вопросам
документации
традиционных
знаний,[246] среди
развивающихся
стран
возникли
разногласия
относительно
типа данных,
которые
можно и нужно
включать в
базы данных.
Некоторые страны,
например,
утверждают,
что такие
базы данных
подходят
лишь для
общедоступной
информации в
кодифицированной
форме. Другие
считают, что
можно
включать и
некодифицированные
традиционные
знания.
Создаваемые
сейчас цифровые
базы данных
для
традиционных
знаний
необходимо
как можно
скорее
включить в минимально
необходимую
документацию,
рассматриваемую
при анализе
патентных
заявок. При
решении
вопроса о
том, включать
ли те или
иные
традиционные
знания в базы
данных, решающую
роль должны
сыграть
владельцы
таких знаний,
и
оони
же также
должны
получать
выгоду от
любого
коммерческого
использования
указанной
информации.
Традиционные
лекарства
область,
которую можно
хорошо
документировать. В Народно-Демократической
Республике
Лаос,
например,
правительство
создало Центр
традиционных
медицинских
ресурсов
(ЦТМР),
который
сотрудничает
с местными знахарями
в работе над
документацией
всех традиционных
лекарств в
целях
поощрения обмена
методами
лечебной
практики
внутри страны.
ЦТМР также
сотрудничает
с
Международной
группой
сотрудничества
по
биоразнообразию
(МГСБ) в деле
разработки
перспективных
лекарственных
препаратов.
Все
полученные
в результате
сотрудничества
выгоды, преимущества,
прибыль и
лицензионные
платежи от
использования
растений и
знаний
распределяются
между соответствующими
общинами.[247]
ПНИС
явно могут
сыграть свою
роль при использовании
изделий,
основанных
на традиционных
медицинских
препаратах,
но основной
задачей
здесь должно
быть
поощрение
применения
этих знаний для
улучшения
здоровья
человека, а
не получения
прибыли.
Можно будет
лишь
сожалеть, если
результатом
задачи
раздела
коммерческих
выгод станет
обогащение
небольшой группы
людей ценой
ограничения
доступа к медицинским
препаратам, в
которых
особо нуждаются
бедные слои
населения.
Стратегия
ВОЗ на 2002-2005 годы
по
традиционным
лекарствам
четко объявляет
общественное
здравоохранение
основной
задачей.[248]
Необходимо
свободно
делиться
уроками и
выводами на
примерах
этих и других
инициатив,
оказывая
техническую
помощь
другим
странам в
руководстве
инициативами,
связанными с
оформлением
документации.
Нужно,
однако,
признать, что
большая
часть традиционных
знаний и в
будущем
останется недокументированной.
Понятие
абсолютной
новизны, в
соответствии
с которой
любое раскрытие
- в том числе и
путем использования
в любой
точке мира -
является
достаточным
для
нарушения
условия
новизны
изобретения
остается,
следовательно,
необходимой
предосторожностью.
Без такой
гарантии
будет
продолжаться
выдача
патентов на
известные
пусть и не
путем
письменного
раскрытия -
традиционные
знания.
Некоторые
страны не
считают использование
за своими
пределами
«предварительными
знаниями».
Страны, в чьи
патентные
определения
включены
лишь местные
знания,
должны равноправно
относиться и
к тем, кто
пользуется
традиционными
знаниями также
и в других
странах. При
разработке
международной
патентной
системы
необходимо учитывать
то, что
традиционные
знания, зачастую,
не
зафиксированы
в письменном
виде.
Некоторые
общины могут
счесть
оскорбительным
предоставление
ПНИС, таких
как патенты,
на их знания.
Хотя
большинство
стран имеют
положения о
непредоставлении
ПНИС по моральным
соображениям,
неясно,
смогут ли ведомства
по
интеллектуальной
собственности
применять их
в отношении
малых коренных
общин. Например,
положения о
непредоставлении
торговых
знаков по
моральным
соображениям
давно
существуют в
Новой
Зеландии, но
теперь решено
было более
четко
определить
рамки таких
положений.
Рассматриваемая
сейчас поправка
предотвратит, на
разумных
основаниях,
регистрацию
торгового
знака там,
где
использование
или
регистрация
знака может
оскорбить
значительную
часть
населения, в
том числе
народность
маори.[249]
Подобные меры,
вместе с
более
широким
использованием
баз данных по
общеизвестным
традиционным
знаниям,
должны, до
некоторой
степени,
предотвратить
предоставление
прав на ИС на
материалы,
которые не
новы,
очевидны или
могут быть
сочтены оскорблением.
Как мы
уже отмечали,
вызывают
озабоченность,
однако, и
другая
группа
патентов и
ПНИС. Речь
идет о
правах,
которые, по-существу,
отвечают
обычным
критериям патентования
или защиты,
но которые,
тем не менее:
·
основаны
на
материалах,
полученных
незаконным
образом либо
без согласия
владельца
·
должным
образом не
признают
вклад других сторон
в
изобретение,
будь-то с
точки зрения
владения
правами или
распределения
выгод от
коммерческого
использования
запатентованного
изобретения.
Такие
моменты
касаются не
только
патентов,
относящихся
к
традиционным
знаниям, хотя,
в свете
положений
КБР, самые
спорные патенты
здесь, скорее
всего,
относятся к
биологическим
ресурсам и/или
традиционным
знаниям,
связанным с
такими
ресурсами. В
случае
кактуса
«худиа» спорным
вопросом
было не то,
предоставлять
или не
предоставлять
патент, а то,
должны ли
представители
народности
сан получить
справедливую
долю выгод от
коммерческого
использования.
Ниже мы
займемся
возможными
способами
осуществления,
в таких
случаях,
более сбалансированного
подхода.
ДОСТУП
И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЫГОД
Справочная
информация
Как мы
уже видели на
примере
дебатов по
традиционным
знаниям,
одним из
основных
аспектов
здесь
является
соотношение
между защитой
интеллектуальной
собственности
и правом
владения, с
одной
стороны, и
правами, связанными
со знаниями,
на которых
основаны права
на
интеллектуальную
собственность,
с другой. Мы
обсудим этот
вопрос в
контексте
решения
изложенных в
КБР задач,
относящихся
к поощрению
раздела
выгод и
предварительному
информированному
согласию.
Поскольку международное
сообщество -
хоть и с
существенными
исключениями
-
ратифицировало
ТРИПС и
КБР, необходимо
обеспечить
такое
положение, при
котором они
усиливают, а
не ослабляют
друг друга.
Конвенция
о
биологическом
разнообразии
(КБР)
Эта
конвенция,
подписанная
в 1992 году,
стремится
поощрить
охрану
биоразнообразия
и равноправное
распределение
выгод от
использования
генетических
ресурсов.[250] В
ней
подтверждены
суверенные
права стран
на
национальные
ресурсы и
право определять
доступ в
соответствии
с национальным
законодательством,
что должно
способствовать
устойчивому
использованию
таких
ресурсов,
поощряя
доступ к ним
и общее
использование.
В Конвенции
отмечается,
что доступ к
генетическим
ресурсам
должен
предоставляться
на основе
предварительного
информированного
согласия и на
взаимосогласованных
условиях
справедливого
и
равноправного
распределения
результатов
научно-исследовательской
и разработочной
деятельности
и выгод от
коммерческого
использования
и применения.[251]
Она также
призывает к
справедливому
и
равноправному
распределению
выгод, связанных
с
использованием
традиционных
знаний.[252]
В
вопросах
интеллектуальной
собственности
в КБР утверждается,
что доступ и
передача
(генетических
ресурсов)
должны
соответствовать
«адекватной
и
эффективной
защите прав
на
интеллектуальную
собственность».
Правительства
разных стран
должны внедрить
политические
программы,
обеспечивающие
доступ к
генетическим
ресурсам,
особенно в
развивающихся
странах, на
взаимосогласованных
условиях. В
конвенции
отмечается,
что патенты и
прочие ПНИС
могут влиять
на внедрение
конвенции, и
что
правительства
должны
оказывать
содействие (в
рамках
национальных
и
международных
законодательств),
с тем, чтобы
такие права
способствовали,
а не
противоречили
задачам КБР.[253]
Управляющий
орган КБР
согласовал
инструкции
по доступу и
разделу
выгод в
качестве руководства
для стран,
готовящих
собственное
национальное
законодательство.[254]
Ряд стран,
однако, как
на практике,
так и в
теории, при
реальном
применении
положения о
разделе
выгод
сталкиваются
с нелегкими
задачами.
Во-первых,
ресурсами, о
которых идет
речь,
зачастую
никто
конкретно не
владеет, они
просто
являются
наследием
одной или более
общин, не
обязательно
единых и не
обязательно
живущих в
одной стране.
Во-вторых,
хоть в
отношении
некоторых
генетических
ресурсов и
можно
проследить и
установить
конкретные
места и среду
обитания, в
ряде случаев они
содержат
компоненты
из многих
стран, при
этом понятие
о разделе
выгод
становится
совершенно
невыполнимым.
В-третьих,
ввиду
разнообразия
национальных
и внутринациональных
обстоятельств,
в отношении,
например,
культурных,
экономических
и организационных
условий,
очень сложно
разработать
законодательство
и
практические
шаги, которые
учитывали бы
такое
разнообразие
и способствовали
внедрению
необходимых
мер. Часто нужно
проявлять
осторожность
и не оказаться
в положении,
при котором
законодательство
и практика
КБР
ограничивают
законное
использование
генетических
ресурсов,
будь-то в
целях
коммерческого
использования
или для научно-исследовательской
деятельности.
Имеются
определенные
указания на
то, что в некоторых
странах
ужесточение
ограничений
затруднило
доступ для
биологов,
изучающих
генетические
ресурсы.[255]
Признавая
все эти
трудности,
нужно сосредоточить
внимание на
том, как
модифицировать
правила
интеллектуальной
собственности
развитых и
развивающихся
стран для
содействия
доступу и
распределению
выгод. Многие
утверждают,
что
поскольку в
ТРИПС ничего
не говорится
о КБР, а в КБР
ничего не сказано
о ТРИПС,
между этими
двумя
соглашениями
никаких
противоречий
быть не
может. Более
того,
утверждают
также, что
ТРИПС поддерживает
КБР, так как
патентование
зачастую
приводит к
коммерческому
использованию,
которое
создает
предпосылки
для
раздела
выгод.
Противники
такого
аргумента
указывают на
то, что,
поскольку
ТРИПС разрешает
патентование,
основанное
на использовании
генетических
ресурсов (при
условии
соблюдения критериев
патентоспособности),
то это идет вразрез
с задачами
КБР, потому
что критерии
патентоспособности
не включают
предварительного
информированного
согласия или
взаимосогласованных
условий
распределения
выгод. В то
время, как в
КБР утверждается
национальный
суверенитет
над
генетическими
ресурсами, в
ТРИПС нет
ничего, что
поддерживало
бы эти задачи
КБР.
Иностранные
компании могут
получить
частные
права на
основе национальных
ресурсов, но
ТРИПС ни
словом не упоминает
об
обязательствах,
изложенных в
КБР.
Тем не
менее, даже
те в
основном, в
промышленных
кругах кто
утверждают,
что
противоречий
между КБР и
ТРИПС нет, в
целом,
поддерживают
фундаментальные
принципы КБР.
В частности,
поскольку в
КБР
утверждается
принцип
суверенитета
наций над
своими
природными
ресурсами, те
отрасли
промышленности,
которые
заинтересованы
в
использовании
генетических
ресурсов,
должны
обеспечить такое
положение,
при котором
их начальная деятельность
по изысканию
данных
основана на
предварительном
информированном
согласии и
соглашениях
по разделу
выгод. Если
они игнорируют
такие
принципы, то
доступ к
указанным ресурсам
может
оказаться
незаконным.
Принимая
во внимание
очевидные
трудности, с
которыми
сталкиваются
развивающиеся
страны при
формулировании
и
правоприменении
законодательства
по доступу к
распределению
выгод, мы считаем,
что развитые
и
развивающиеся
страны
должны
прилагать
больше
усилий с тем,
чтобы
внедренная у
них система
ИС помогала
поощрять
выполнение
задач КБР,
развивая
фундаментальную
взаимозаинтересованность
между
поставщиками
генетических
ресурсов в
основном, из
развивающихся
стран - и
их пользователями
- в основном в
развитых странах.
Раскрытие
географических
источников
генетических
ресурсов в
патентных
заявках
Согласно
одному из
предложений,
заявители, желающие
получить
права на ИС,
основанные
на генетических
ресурсах,
должны
указывать источники
ресурсов,
предоставив
доказательства
того, что
заручились
предварительным
информированным
согласием
страны, в которой
взяты такие
ресурсы.
Примеры стран,
которые ввели
в свои
законодательства
такие требования,
приводятся
во врезке 4.4.
Территориальная
природа
патентов
означает, что
указанные
выше
требования
касаются
лишь
патентования
в конкретных
странах или
регионах.
Такие
требования,
например, не
имеют
никакой силы
в отношении
патентования
в США или
Японии. Раз
так, то, как
утверждают,
для решения указанного
вопроса
нужен подход,
который носил
бы
международный
характер.
Утверждают
также, что
требование
патентных
законодательств
к заявителю
патента о разглашении
источников
происхождения
генетических
ресурсов и о
доказательствах
о том, что тот заручился
предварительным
информированным
согласием,
поведет к
большей
прозрачности,
а сам факт
предоставления
такой информации
поможет
правоприменению
в плане соглашений
о правилах
доступа и
разделе
выгод. Это
также поможет,
утверждают
они, пролить
свет на новые
случаи,
подобные случаю
кактуса
«худиа».
Врезка 4.4
Примеры
патентного
законодательства
с включением
положения о
раскрытии происхождения
Индия:
Раздел 10 (содержание
спецификаций)
Патентного
акта 1970 года с
поправками
Второго
видоизмененного
патентного
акта (2002 г.)
требует от
заявителя раскрывать
источники и
географическое
происхождение
любых
биологических
материалов,
фигурирующих
в описании.
Раздел 25 (возражения
против
предоставления
патентов), с поправками,
также
разрешает
возражения на
почве того,
что «полная
спецификация
не раскрывает
или неверно
упоминает
источники
или
географическое
происхождение
использованных
в
изобретении
биологических
материалов».
Андские
общины:
В статье 26
постановления 486
говорится о
том, что
заявка на
патент должна
подаваться в
компетентное
национальное
патентное
бюро и должна
содержать:
h)
копию
контракта о
доступе, если
продукты или
процессы,
фигурирующие
в патентной
заявке,
получены или
разработаны
на основе генетических
ресурсов или
побочных
продуктов,
полученных
из одной из
стран-членов
организации;
i)
при
необходимости
копию
документа,
удостоверяющего
наличие
лицензии или
разрешения
использовать
традиционные
знания коренных
жителей,
афро-американцев
или местных
общин
стран-членов
организации,
где получены
или
разработаны
фигурирующие
в заявке
продукты или
процессы, на
основе знаний,
источник
происхождения
которых находится
в одной из
стран-членов
организации, в
соответствии
с
положениями
постановления 391 о
предоставлении
патентной
защиты, с соответствующими
поправками и
дополнениями;
Коста-Рика: Закон
о
биоразнообразии
№ 7788, статья 80
(обязательные
предварительные
консультации)
утверждает,
что «Как
Национальное
семенное
ведомство,
так и
Ведомство по
регистрации
интеллектуальной
и
индустриальной
собственности
обязаны
консультироваться
с
Техническим
советом
комиссии (по
вопросам
биоразнообразия)
перед
предоставлением
защиты
интеллектуальной
и индустриальной
собственности
на инновации,
связанные с
компонентами
биоразнообразия.
Необходимо
всегда подавать
удостоверения
о
происхождении,
выданное
Техническим
советом
комиссии, и
доказательство
получения
предварительного
информированного
согласия.
Обоснованные
возражения
совета
комиссии
будут
служить
запретом на
регистрацию
патента или
защиту
инноваций».
Непредоставление
необходимой
информации в
любом из
вышеупомянутых
случаев
приводит к
непредоставлению
или отмене
патента.
Европа: В
Дополнении 27
к Директиве 98/44
о правовой
защите
биотехнологических
изобретений,
говорится о
том, что
соответствующие
патентные
заявки
должны
включать
информацию о
географическом
происхождении
- если оно
известно -
биологических
материалов. Такие
действия,
однако,
носят совершенно
добровольный
характер и не
влияют на
процесс
патентования
или на
действительность
прав по предоставленному
патенту.
Противники
вышеуказанного
подхода утверждают,
что попытки
бороться с
незаконным доступом
и
неутвержденным
использованием
через
патентное
законодательство
не решают
проблемы в
случаях, не
связанных с
патентованием.
Более того,
введение таких
требований
лишь в
отношении
генетических
ресурсов и
связанных с
ними знаний явится
дискриминационным
шагом в
отношении
других
случаев
получения
патента в результате
незаконных
или
неутвержденных
действий. В
качестве
аргумента
приводится
возможность
того, что это
приведет к
правовой
неопределенности
и создаст
«серьезные
практические
трудности»,
поскольку
«зачастую неясно
происхождение
того или
иного
биологического
образца»[256]. Даже
если
непосредственный
источник материалов
известен, он
может не быть
первоначальным
источником,
особенно там,
где материалы
получены
что
происходит
довольно часто
из
находящихся
в других
местах
коллекций,
собранных в
течение
многих лет.
Трудно
судить о
реальности
таких
неопределенностей.
Там, где
компания
заинтересована
в каких-то
конкретных
генетических
ресурсах, она
вероятно,
постарается,
раздобыть
как можно
больше
информации о
таких материалах
(например,
узнать, как
ими пользуется
местное
население),
для
возможного
последующего
использования
данных
материалов. В
таких
случаях,
видимо,
станет
известным и
географическое
происхождение
ресурсов. В других
случаях
установить
точное
географическое
происхождение
отдельного
образца
может быть сложнее.
Тем не менее,
кажется
маловероятным,
особенно в
отношении
образцов,
полученных
после 1992 года,
чтобы не было
какой-то информации
о
географическом
происхождении
того или
иного
образца.
Согласно
положениям
КБР, всеми
выгодами
следует
делиться со странами,
предоставившими
ресурсы,
независимо
от того,
происходят
ли они из
этой страны
или нет.[257]
МДГРРПСХ,
как мы уже
видели,
обеспечивает
другой
механизм для
генетических
ресурсов
растений
разного
происхождения.
Одной
из целей
требования о
раскрытии
источников
происхождения
и о
предварительном
информированном
согласии
является поощрение
соблюдения
условий КБР
по доступу и
принципам
раздела
выгод.
Существуют,
однако, и
другие
механизмы
поощрения,
решающие те
же задачи.
Отказ в
разрешении
на доступ и
использование
материалов
может,
например,
привести к
судебным
действиям по
причине неправомерного
владения или
нарушения
контракта.
Однако
компенсация
через суд дорогостоящий
и длительный
процесс, к
тому же
польза его
для
владельцев
традиционных
знаний может
оказаться
весьма
ограниченной.
Кроме того,
опасение
прослыть
«биопиратом»
также может
толкнуть
организации
в
направлении
более
тщательного
контроля
своей
деятельности.
Известным
нарушителям
КБР могут в
будущем
отказывать в
доступе к
материалам. Такие
санкции уже
рассматриваются
в Бангладеш.[258]
Поставщики
материалов
могут договориться
между собой
поставлять
материалы
лишь
организациям,
готовым
сообщить в патентной
заявке, что
могут
раскрыть
полную информацию,
касающуюся
контрактов
по доступу к
материалам.
Вполне
возможно, что
одного лишь
этого фактора
окажется
достаточным. Компании
и
организации,
использующие
или поставляющие
биологические
материалы и традиционные
знания, уже
используют
либо рассматривают
возможность
принятия кодекса
поведения,
связанного с
деятельностью
по КБР.[259]
Мы, тем
не менее,
считаем, что
важно
признавать
силу КБР,
даже если
пока всего
лишь несколько
стран
внедрили
конкретное
законодательство
о доступе и
разделе
выгод. Мы, следовательно,
можем
заключить,
что там, где страны,
предоставляющие
ПНИС на
материалы
или знания,
создали четкие
правовые
рамки,
регулирующие
доступ к
биологическим
материалам
и/или традиционным
знаниям, они -
в случае
незаконной их
выдачи в
таких
странах -
будут в
состоянии
принять
соответствующие
меры.
Более
того, в
поддержку
задач КБР мы
даже готовы
утверждать,
что никто не
должен быть в
состоянии извлекать
выгод из прав
на ИС,
основанных на
незаконно
используемых
или
полученных генетических
ресурсах или
знаниях.
Организации,
рассматривающие
этот вопрос,
должны проанализировать
возможность
принятия соответствующих
мер в рамках
существующих
международных
положений. В
дополнение к возможности
отказа в
выдаче
патентов или признания
определенных
прав
недействительными
мы также
предлагаем
подумать над объявлением
таких ПНИС
неправоприменительными.[260]
Такие
санкции уже
доступны в
США в рамках
доктрины
«нечистых
рук» и
неравноправного
поведения, в
соответствии
с которой суды
отказываются
от
правоприменительных
мер, пока
патентообладатель
не «очистил рук»,
то есть не
принял
необходимых
исправительных
мер. При истолковании
таких
доктрин суды
дали понять,
что больше
всего их
заботит
патентование,
которое
должно быть
«свободно от
обмана и другого
несправедливого
поведения».[261]
Верховный
Суд США также
отметил, что
«суд
равноправия
действует
лишь тогда,
когда это
вопрос совести;
если
поведение
истца
оскорбительно
для
естественной
справедливости,
то, каковы бы
ни были его
права, и как
бы он ими ни пользовался
в законном
суде, у
него не будет
никаких
средств
судебного
воздействия
в суде
равноправия».[262]
Принцип
равноправия
говорит о
том, что никто
не должен
выигрывать
от прав на ИС,
связанных с
генетическими
ресурсами,
полученными
в нарушение
законодательства,
регулирующего
доступ к
таким
материалам.
В указанных
случаях, как
правило,
доказывать,обычно,
доказать,
что владелец
ИС
действовал
незаконно,
должен
жалобщик.
Однако при
этом должно
быть
известно, что
поступали
неправильнокоторый,
однако,
должен знать.
Чтобы помочь
в этом
отношении, мы
считаем необходимым
требование о
раскрытии
вышерассмотренного
типа.
Все страны
должны в законодательном
порядке
обеспечить,
чтобы в
патентных
заявках обязательно
раскрывалась
информация о
географическом
источнике
генетических
ресурсов,
лежащих в
основе
изобретения.
Здесь возможны
разумные
исключения,
когда,
например,
действительно
невозможно установитьзнать
географический
источник
материалов.
Санкции
применяют
лишь тогда,
когда можно
продемонстрировать,
что в патентной
заявке либо
должным
образом не
раскрыт известный
источник,
либо что
заявитель
намеренно
желает
ввести
патентное
ведомство в
заблуждение
относительно
такого источника.
Совет ТРИПС
должен рассматривать
отреть
этот
вопрос в
свете
пункта 19
Министерской
декларации
ВТО, принятой
в Дохе.
Необходимо
также
продумать
создание такой
патентной
системы, в
которой
приведенная
в патентных
заявках
информация о
географическом
источнике
генетических
ресурсов или традиционных
знаний
передается
либо заинтересованной
стране,соответствующей
стране либо
или
ВОИС. Э, эта
организация
может статьбыть
хранителем
такой
патентной
информации
об обвинениях
в
«биопиратстве».
Все это
позволит
лучше
контролировать
правильное
использование
генетических
ресурсов.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ
Справочная
информация
В начале
данного
раздела мы
рассмотрим
соответствие
и связь между
географическими
названиями и
защитой
традиционных
знаний.
Географические
названия,
однако, имеют
гораздо
более
широкое
применение, в
некоторых
странах они -
одна из
главных
категорий интеллектуальной
собственности.
Все это было
отражено в соглашении
ТРИПС.
Географические
названия и
ТРИПС
Переговоры
по разделам
соглашения
ТРИПС, касавшимся
географических
названий, проходили
с особыми
трудностями.[263]
Это было
связано с
очевидным
разногласием
главных
сторонников
соглашения ТРИПС
США и ЕС.
Кроме того,
как
выяснилось
впоследствии
во время
обсуждений в
Совете ТРИПС,
среди других
развитых и
развивающихся
стран также
существовали
разногласия.
Окончательный
текст
соглашения
отражает все
эти разногласия.
Проведение
дальнейшей
работы является
признаком
того, что по
ряду важных
аспектов соглашения
достичь не
удалось.
В
результате
текст ТРИПС,
в его
нынешнем виде,
обеспечивает
основные
стандарты
защиты, а
также более
высокие
стандарты в
таких областях,
как вина и
спиртные
напитки, что
не является отражением
каких-то
уникальных
свойств вин и
спиртных
напитков, а
является,
скорее, результатом
переговорного
компромисса.
Указанный
дисбаланс
привел к
требованиям о
дополнительной
защите со
стороны
таких стран,
как Индия,
Пакистан,
Кения,
Маврикий и Шри-Ланка.[264]
Некоторые
страны, такие
как Аргентина,
Чили и
Гватемала,
утверждали,
что распространение
дополнительной
защиты на прочие
продукты
приведет к
дополнительной
финансово-административной
нагрузке на всех
стран-членов
ВТО, и что это
перевесит любые
торговые
преимущества.
Они считали,
что это сильнее
всего ударит
по
развивающимся
странам.
В
отсутствие
надежного
экономического
анализа
трудно
оценить
плюсы и
минусы аргументов
обеих сторон.
Они,
разумеется,
также отражают
различия
развитых и
развивающихся
стран в
восприятии
своих
экономических
интересов.
Некоторые
страны,
например,
Египет и
Парагвай, уже
заявили, что
дополнительная
защита на
географические
названия вин
и спиртных
напитков
будет в их
национальных
законодательствах
распространяться
и на другие
продукты.[265]
Будущее
покажет,
приведет ли -
в отсутствие
международного
признания -
такая всеобъемлющая
дополнительная
защита к существенным
дополнительным
выгодам, или
же все это
приведет
лишь к
дополнительным
издержкам.
Многосторонний
реестр
географических
названий
Наряду с
усиленной
защитой
географических
названий в
области вин
и
спиртных
напитков,
ТРИПС также
требует
проведения
Советом
ТРИПС
переговоров,
касающихся создания
многостороннего
реестра
географических
названий вин.
Министерская
конференция
в Дохе
распространила
это
требование
на ведение
переговоров
и в области
спиртных
напитков.
Цель реестра
четко
определена
не была. Как
отмечается
ниже,
существуют разные
точки зрения
разных групп
стран по этим
вопросам.
Некоторые
страны
желают пользоваться
им в качестве
полноценной
международной
системы,
обязывающей
страны-члены
обеспечивать
защиту
географических
названий,
удовлетворяющих
условиям
регистрации.
Другие
желают
видеть в нем
добровольную
систему
регистрации
и источник
информации.
На сегодня
представлено
три
различных
предложения
по созданию
многостороннего
реестра. Предложение
ЕС
предусматривает
реестр, который
будет
распространяться
на все страны-члены
ВТО,
независимо
от того,
включены ли в
реестр их
географические
названия.[266]
Любая страна-член
ВТО, желающая
оспорить
включение в реестр
каких-либо
географических
названий,
должна
уведомить об
этом страну,
которую это
касается, и
приступить к
переговорам
по
преодолению
разногласий.
Предложение
Венгрии
состоит в
том, что если
какая-то страна-член
ВТО по
конкретным
причинам
успешно оспаривает
включение
какого-то
географического
названия, то
другим
странам-членам
ВТО
необходимости
защищать его
нет.[267] В
обоих
предложениях
включение
географического
названия в
реестр
предполагает
право на
защиту любыми
правовыми
средствами в
распоряжении
стран-членов
ВТО по защите
географических
названий.
В отличие
от этого,
совместное
предложение
США , Канады,
Чили и Японии
предусматривает
систему
регистрации,
обязывающую
лишь тех, кто
желает в ней
участвовать[268]. Страны-участницы
будут
пользоваться
реестром,
когда,
например,
они
рассматривают
заявку на
торговый
знак,
являющийся географическим
названием
или
содержащий такое
название.
Неучаствующих
в этой схеме
стран-членов
ВТО будут
поощрять к
пользованию
реестром. Переговоры
по реестру, в
соответствии
с указаниями
недавней
министерской
конференции ВТО в
Дохе, должны
завершиться
до следующей
конференции
в Мексике в 2003
году.
Секретариат
Совета ТРИПС
уже
приступил к выяснению
того, как
некоторые
страны-члены
ВТО, включая
ряд
развивающихся
стран,
выполняют
обязательства
по ТРИПС.[269]
Большинство
стран, из
которых
поступила информация,
имеют особое
законодательство
в области
географических
названий,
хотя и не
совсем ясно,
явились ли
такие
законодательства
непосредственным
результатом
требований
соглашения ТРИПС,
или же они
существовали
и прежде, в связи,
скажем, с
какими-то
двусторонними
обязательствами.
Дополнительная
административная
нагрузка по
вступлению в
силу нового
законодательства
в странах,
где такой
защиты не
было,
по-видимому,
не очень
велика,
поскольку
ТРИПС сейчас
не требует
официальной
национальной
регистрационной системы
географических
названий, а
следовательно
правоприменительная
нагрузка и
затраты
падают на
владельцев
географических
названий, а
не на правительство
той или иной
страны. Как
будет
показано
ниже, однако,
затраты по
соблюдению
стандартов
качества,
поощрению
употребления
географических
названий и
правоприменению
за границей
могут
оказаться весьма
значительными.
Экономическое
воздействие
географических
названий
При
рассмотрении
вопроса о
переговорной
позиции по
поводу
многостороннего
реестра и
возможного
расширения
рамок защиты
важно, чтобы
развивающиеся
страны внимательно
оценили все
свои
потенциальные
издержки и
выгоды. В
других
главах настоящего
отчета
рекомендуется
проведение
всестороннего
экономического
анализа до
возложения
на
развивающиеся
страны новых
обязательств
по ИС.
Оценить
экономические
последствия
этих аспектов
для
развивающихся
стран нелегко.
Основным
экономическим
преимуществом
географических
названий
является их
функция
знака
качества,
играющего
роль в
улучшении
позиции на
экспортных
рынках и
повышении
доходов.
Более
сильная
защита, однако,
особенно в
международных
масштабах,
может
отрицательно
повлиять на
местные
предприятия,
использующие
в настоящее
время географические
названия,
которые в
будущем могут
оказаться
защищенными
какой-то
другой стороной.
Таким
образом,
здесь
проигрывают
страны,
выпускающие
товары-заменители
товаров,
защищенных
географическими
названиями.
Расширение
перечня
географических
названий приведет
к снижению
ценности
отдельных названий.
Считают
также, что
географические
названия
будут
представлять
особый
интерес для развивающихся
стран,
способных
добиться сравнительного
преимущества
в области сельскохозяйственных
продуктов,
переработки
пищевых
продуктов и
напитков.[270]
Для таких
стран защита
и правоприменение
защиты
географических
названий за
границей
могут иметь
экономические
преимущества.
Однако
затраты по
таким действиям,
в
особенности
правоприменительным,
могут
оказаться
очень
высокими. Кроме
того, до
защиты за
границей
необходимо разработать
соответствующие
меры по защите
географических
названий в
собственной
стране. Могут
понадобиться
средства на разработку
шагов по
поддержанию
качества,
репутации и
других
свойств и
характеристик
продуктов,
связанных с
географическими
названиями.
Необходимы
также усилия
по
обеспечению
такого
положения,
при котором
географические
названия не
станут
просто
нарицательными
обиходными
словами (см.
врезку 4.5).
С нашей
точки зрения,
далеко не
ясно, много
ли выиграют
указанные
страны от
использования
географических
названий.
Например, в 1958
году было
заключено
Лисабонское
соглашение администрируемая
ВОИС
международная
система
защиты
названий.[271] На
сегодня лишь
20 стран (семь
из них
развитых)
присоединились
к этому
соглашению, и
по состоянию
на 1998 год 766 названий
находится
под его
защитой, из
них 95%
европейские.
Врезка 4.5
Географические
названия -
рис басмати
Басмати
вид риса из
провинции
Панджаб в Индии
и Пакистане.
Выращиваемый
здесь рис
имеет тонкие
длинные
ароматные
зерна. В
обеих странах
такой рис -
важная
экспортная
культура. Годовая
стоимость
экспортируемого
риса басмати
составляет
около 300 млн
долларов США,
такой
экспорт дает
работу и
пропитание тысячам
фермерских
семей.
«Битва
за басмати»
началась в 1997
году, когда
работающая в
области риса
американская
селекционная
фирма RiceTec Inc.
получила
патент
(патент США №
5663484) на растения
и семена,
позволяющий
монополизировать
разнообразные
разновидности
риса, включая
и те,
характеристики
которых
аналогичны
свойствам
риса басмати.
Озабоченная
возможным
воздействием
на ее
экспорт,
Индия в 2000 году
потребовала
пересмотра
патента.
Владелец
патента, в
ответ на это
требование,
изменил
патентную
формулу, изъяв
из нее
разновидности
риса басмати.
После
вмешательства
патентного
бюро США были
сняты
дополнительные
разновидности
риса. Спор,
однако,
распространился
с патентных
вопросов на
неверное
использование
слова
«басмати».
В
некоторых
странах
название
«басмати»
можно
применять
лишь к
ароматному
рису с
длинными
зернами,
выращиваемому
в Индии и
Пакистане.
Фирма RiceTec
также подала
заявку на
регистрацию
в Великобритании
торгового
знака
«Тексмати»,
утверждая,
что «басмати» -
общий
нарицательный
термин.
Заявка была
успешно
оспорена, и
Великобритания
разработала
кодекс
работы со
сбытом риса.
Саудовская
Аравия
(крупнейший в
мире импортер
риса басмати)
придерживается
аналогичных
норм.
В
кодексе
говорится,
что «в
потребительских,
торговых и
научных
кругах
считают, что
настоящий
рис басмати
можно
выращивать
лишь в
северных
регионах
Индии и
Пакистана
«благодаря
уникальному
сложному
сочетанию
окружающей
среды, почвы,
климата, сельскохозяйственной
практики и
генетики культур
басмати».
Однако
в 1998 году
Американская
федерация
риса заявила,
что термин
«басмати» - нарицательный
и относится к
типу ароматного
риса. В ответ
на это, ряд
общественно-гражданских
организаций
США и Индии
подали петицию
с целью
предотвратить
рекламное использование
термина
«басмати» по отношению
к рису,
выращенному
в США. Она
была
отвергнута
Министерством
сельского
хозяйства США
и
Федеральной
торговой
комиссией
США в мае 2001
года, которые
сочли, что
выражение
«выращенный в
США рис
басмати» не
вводит
покупателей
в
заблуждение,
а также, что
термин «басмати»
является
нарицательным.
Проблема
затрагивает
не только США
- Австралия,
Египет,
Таиланд и
Франция
также выращивают
рис типа
басмати и
могут
последовать
примеру США,
считая
термин
«басмати»
нарицательным.
Название
«басмати» (и
экспортные
рынки Индии и
Пакистана)
можно
защитить,
зарегистрировав
его как
географическое
название.
Однако, Индии
и Пакистану
придется объяснить,
почему на
протяжении
последних 20
лет не было
принято
никаких мер
против постепенного
перехода к
использованию
слова «басмати»
в качестве
нарицательного
термина. Например,
Индия не
подала
официального
протеста,
когда
Федеральная
торговая
комиссия США
официально
объявила
термин
«басмати» нарицательным.
Даже с
учетом
известных
недостатков
Лисабонского
соглашения,
таких как,
например,
неисключение
географических
названий,
ставших
общепринятыми
нарицательными
словами (что
делает их
непривлекательными
как для
развитых, так
и для
развивающихся
стран)
уровень
интереса,
даже со
стороны
развивающихся
стран,
считающих
соглашение
хорошим, судя
по всему,
оказался
довольно
ограниченным.[272]
В рамках
обсуждаемого
в ВТО
многостороннего
реестра было,
среди
прочего,
предложeно
рассмотреть
вероятную
стоимость
введения
реестра по
типу,
предложенному
ЕС[273]. Во время
недавнего
обсуждения
этих вопросов
в ВОИС[274] ряд
развивающихся
стран
выдвинули
аналогичные
предложения
по
проведению
вышеупомянутого
анализа. При
этом, однако,
страны,
которые
теперь
оказывают
давление с
целью
проведения
такой работы
ВТО, не
оказали такому
предложению
необходимой
поддержки. Мы,
как и другие,
считаем, что
лишь после
такого
анализа
развивающиеся
страны,
особенно
низкодоходные,
смогут
выработать
информированную
позицию на
продолжающихся
дебатах по
географическим
названиям,
особенно в
рамках ВТО.[275]
Какой-то
компетентный
орган, возможно, ЮНКТАД, должен
срочно
дополнительно
проанализировать
выгоды и
издержки существующих
положений ТРИПС,
для
развивающихся
стран,
определив:
·
фактические
и вероятные
затраты по
внедрению
существующих,
по ТРИПС,
положений о
географических
названиях
·
какую роль
географические
названия могли
бы играть,
существующих
положений
СТАПНИС в
развитии
этих стран
·
вероятные
выгоды и
издержки
распространения
существующей
дополнительной
защиты вин и
спиртных
напитков на
другие
продукты,
·
а также такжевыгоды
и издержки
разных
подходов кпо
созданию
многостороннего
реестра
географических
названий.
Раздел
5
ВВЕДЕНИЕ
Любой
серьезный
анализ
вопросов ИС и
развития
должен также
рассмотреть
решающее значение
и важнейшую
роль защиты
авторских
прав и связанных
с ней
отраслей
(включая
издательское
дело,
кинопромышленность,
телевидение,
радио,
музыку, а
теперь также
и компьютерное
программное
обеспечение)
в получении и
распространении
знаний и
продукции на
их основе.
Эти отрасли
поставляют
интеллектуальное
«сырье» для
науки и
инноваций, а
также в деле
образования
и общей
подготовки.
Они способствовали
резкому
росту
производительности
труда,
содействуя
созданию
продукции,
основанной
на
информации,
такой как настольные
издательские
системы,
программное
обеспечение,
электронная
почта и
совершенные
научные
компьютеризованные
базы данных.
Более того,
отрасли на
основе
защиты
авторских
прав
превратились
в огромные
источники
благосостояния
и занятости в
глобальной
наукоемкой
экономике. В
США,
например,
совместная
стоимость
этих
отраслей на
протяжении
последних
двадцати-тридцати
лет росла так
быстро, что
их вклад во
внутренний
национальный
продукт США в
настоящее
время
составляет свыше
460 млрд
долларов США,
а экспорт в 1999 году
составил
почти 80 млрд
долларов США.[276]
Для
развивающихся
стран это
связано с огромными
возможностями,
но также и с
необходимостью
решения
нелегких
задач:
«Ввиду
центральной
роли
информации и
знаний в
постиндустриальной
экономике,
создание и
владение
наукоемкой
продукцией
играет все
возрастающую
роль.
Концепция
защиты
авторских прав,
которая
предназначалась
вначале для защиты
авторов и
издателей
книг,
расширилась
теперь на
продукцию на
основе
других знаний,
такую как
компьютерные
программы и кинопромышленность
Защита
авторских
прав стала одним
из наиболее
важных
средств
регулирования
международного
потока идей и
продукции на
основе
знаний она
станет
центральным
орудием
связанных со
знаниями
отраслей
двадцать
первого века.
В новой
глобальной
экономике на
основе
знаний тот,
кто
контролирует
авторские
права,
пользуется
существенными
преимуществами.
Фактически,
владение авторскими
правами, в
значительной
степени, находится
в руках
промышленно
развитых стран
и
крупных
мультимедийных
корпораций,
так что низкодоходные
страны и
страны с
меньшим объемом
экономики
находятся в
довольно невыгодном
положении.[277]
Правовая
защита
авторских
прав
началась в 1700-х
годах с так
называемого
закона Анны.
В конце 19-го
века она была
закреплена в
Бернской
конвенции.
Хотя язык
конвенции
предполагает
защиту прав отдельных
авторов и
художников,
во многих случаях
авторские
права
принадлежат
не отдельным
лицам, а
фирмам, в
которых они
работают.
Защита
авторских
прав -
существенный
элемент
бизнес-модели
книгоиздателей,
телевизионных
компаний,
фирм
звукозаписи
и программного
обеспечения,
поскольку
они предоставляют
владельцам
исключительные
права, среди
прочего, на
воспроизведение
и распространение
защищенных
работ. Новые информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ) и, в
частности,
Интернет,
дают
возможность
контрафактного
создания
неограниченного
числа
бесплатных
копий
защищенных
работ,
которые
совершенно
неотличимы
от оригинала,
а также почти
мгновенное
всемирное
распространение.
Это ставит
перед
законодательством
по защите авторских
прав
беспрецендентно
сложные задачи.
Некоторые
считают, что
в будущем
защита
авторских
прав станет
менее важной,
поскольку
соответствующие
отрасли
перейдут на
технологическую
защиту в
форме кодирования
и
противоконтрафактных
мер, в дополнение
к контрактному
законодательству
и специфическим
формам
защиты ИС для
баз данных.
Мы
считаем, что
для
развивающихся
стран важность
защиты
авторских
прав растет
по мере их
вступления в
информационный
век и борьбы
за участие в
глобальной
экономике на основе
знаний.
Разумеется, в
некоторых
развивающихся
странах
давно
высказываются
опасения,
что, например,
защита
авторских
прав на книги
и учебные
материалы
затруднит
достижение образовательных
и
научно-исследовательских
целей. Такие
опасения
многократно
высказывались
на
Стокгольмской
конференции
1967 года по Бернской
конвенции,
остаются они
в силе и сегодня.
Защита
авторских
прав
заслуживает
сегодня
особого
внимания не
только
потому, что миллионы
представителей
бедных слоев
населения
все еще не
имеют
доступа к
книгам и
другим
работам,
защищенным
авторскими правами,
но и потому,
что за
последнее
десятилетие
произошел
быстрый
прогресс в информационно-коммуникационной
технологии,
преобразовавший
производство,
распространение
и
хранение
информации. Это
сопровождалось
укреплением
национальной
и
международной
защиты
авторских
прав. Именно
ввиду указанных
технологических
изменений те
отрасли
развитых
стран,
кеоторые
основаны на
авторских
правах, стали
лоббировать
в пользу
ТРИПС и
договора
ВОИС об
авторских
правах, а
также специфических
систем
защиты баз
данных, созданных
ЕС в 1996 году.
Такая
тенденция,
вероятно,
имеет для
развивающихся
стран как
положительные,
так и
отрицательные
аспекты. Важно
понять, как
все это
воздействует
на эти страны
и особенно на
бедные слои
населения.
Для
развивающихся
стран
важнейшее
значение
имеет верный
баланс
защиты
авторских прав
и
обеспечения
адекватного
доступа к знаниям
и продукции
на основе
знаний. Стоимость
такого
доступа и
истолкование
исключений
«справедливого
использования»
особо важны
для
развивающихся
стран, тем
более, что защита
авторских
прав
распространена
теперь и на
программное
обеспечение
и цифровые
материалы.
Все эти
вопросы
нуждаются в
решении,
чтобы
развивающиеся
страны
смогли иметь
доступ к
важной
наукоемкой
продукции
для целей
всеобщего
образования,
научно-исследовательской
деятельности,
улучшения конкурентоспособности,
охраны
культуры и снижения
уровня
бедности.
В
настоящем
разделе мы
рассмотрим
следующие
вопросы:
·
Насколько
защита
авторских
прав важна для
стимулирования
культурной
и
других
отраслей
развивающихся
стран?
·
Насколько
защита
авторских
прав влияет на
развивающиеся
страны в
качестве потребителя
продуктов
из-за
границы,
особенно
образовательных
материалов,
включая Интернет?
·
Что
необходимо
предпринять
развивающимся
странам в
отношении
правоприменения
защиты
авторских
прав?
·
Как
защита
авторских
прав влияет
на программное
обеспечение
в
развивающихся
странах?
ЗАЩИТА
АВТОРСКИХ
ПРАВ В
КАЧЕСТВЕ
ТВОРЧЕСКОГО
СТИМУЛА
Согласно
таким
организациям,
как ВОИС, ЮНЕСКО
и Всемирный
Банк,
развивающимся
странам
важно
разработать
механизмы
защиты и выигрыша
от
коммерческого
использования
собственных
творческих
работ,
созданных в прошлом
и настоящем.
С этой точки
зрения, защита
авторских
прав может
сыграть
важную роль в
развитии
культурных
отраслей
развивающихся
стран,
которые
могут
выиграть от
исключительных
прав на
копирование
и
распространение
таких работ.[278] В
Разделе 4 мы
обсудили
вопросы, относящиеся
к защите
традиционных
знаний в развивающихся
странах.
Многое из
этого имеет
также
отношение и к
обсуждаемым
здесь вопросам,
в той мере, в
какой
возможна
защита авторских
прав таких
знаний и
творческой деятельности.
С
глобальной
точки зрения,
непосредственный
выигрыш от
защиты
авторских
прав, в основном,
получают
такие
отрасли, как
издательское
дело,
индустрия
развлечений
и
отрасль
программного
обеспечения
Европы и
Северной
Америки. Как
видно из
нижеприводимого
Рис. 5.1, на США ,
Великобританию,
Германию,
Испанию,
Францию и Италию
приходилось
около двух
третей глобального
экспорта
книг в 1998 году. В
некоторых
случаях,
однако,
отрасли на
основе
авторских
прав в
развивающихся
странах
также
процветают,
получая свою
долю
вознаграждения.
Самым,
вероятно,
известным
случаем
здесь стала
индустрия
программного
обеспечения
Индии. В 1994-95 и 2001-02
годах
валовой
доход этой
отрасли возрос
с 787 млн
долларов США
до 10.2 млрд
долларов США
(большую
часть
составлял
экспорт
программного
обеспечения,
возросший за
этот
период
с 489 млн
долларов США
до 7.8 млрд
долларов
США). К марту 2002
года в
отрасли
программного
обеспечения
работало
около 520000
человек.[279] В
развивающихся
странах определенно
живут многие
талантливые
артисты и
творческие
люди
например,
музыканты
Мали и
Ямайки
или традиционные
художники Непала.
Их творчество
можно использовать
на пользу
экономики
своих стран.
Это, однако,
произойдет
лишь при
наличии местной
культурно-отраслевой
инфраструктуры,
такой,
например, как
издательское
дело или
студии
звукозаписи.
В настоящее
время многие
писатели и
музыканты
развивающихся
стран
(особенно в
Африке)
вынуждены
полагаться на
иностранных
издателей и
фирмы
звукозаписи.
Рис. 5.1
Рыночная
доля
основных
стран-экспортеров
книг, 1998 год
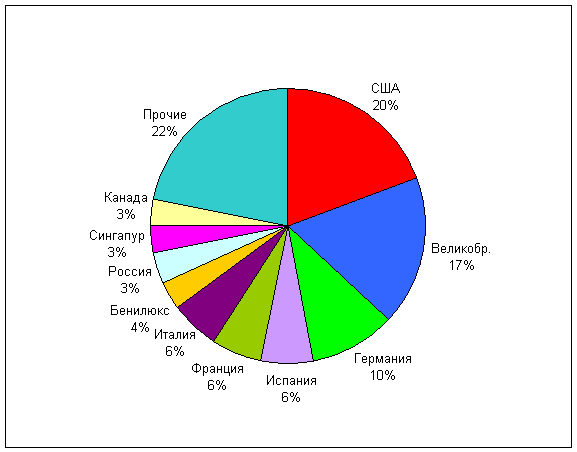
Источник:
ЮНЕСКО (2000a)
В то
время, как
существуют
такие страны,
как Индия, с
ее успешной
индустрией
программного
обеспечения,
имеются и
другие
развивающиеся
страны,
которые
десятилетиями
обеспечивали
защиту
авторских
прав в
качестве стран-членов
Бернской
конвенции
(например,
Бенин или
Чад,
присоединившиеся
к Конвенции в
1971 году), но в
которых, тем
не менее, не
наблюдается
ни
существенного
роста национальных
отраслей на
основе
защиты авторских
прав ни роста
уровня
создания
гражданами
работ с
защищенными
авторскими
правами.
Это
свидетельствует
о том, что
защита авторских
прав
необходимое,
но не
достаточное условие
развития
жизнеспособного
издательского
дела,
индустрии
развлечений,
программного
обеспечения
и аналогичных
отраслей в
развивающихся
странах. Для
устойчивого
развития
таких
отраслей с
защитой
авторских прав
важны и
другие
факторы. Если
в качестве примера
взять
издательское
дело в
Африке, то
здесь такие
факторы, как
непредсказуемость
масштабов
приобретения
учебников правительством
и спонсорами,
слабый
менеджмент
местных
компаний,
высокая
стоимость оборудования
и бумаги, а
также
сложности
финансирования
будут,
вероятно, во
многих
странах и дальше
играть
сдерживающую
роль в
обозримом
будущем.[280]
Более
того, при
ограниченных
рынках многих
развивающихся
стран,
наличие
защиты авторских
прав может
стать, с
коммерческой
точки зрения,
существенным
фактором лишь
в отношении
экспортного,
а не внутреннего
рынка,
несмотря на
то, что
авторам и
компаниям
развивающихся
стран, возможно,
придется
пойти на
очень
крупные расходы
в попытке
правоприменения
своих прав на
указанных
рынках.
Разумеется, в
крупных
развивающихся
странах,
таких как
Индия, Китай,
Бразилия или
Египет,
защита
авторских
прав на внутреннем
рынке явно
является
важным
фактором в
издательском
деле,
кинопромышленности,
музыке и
программном
обеспечении,
хотя, как мы
уже отмечали,
в 19-ом веке США
пытались помочь
развитию
своего
издательского
дела тем, что
не
признавали
авторских
прав иностранных
владельцев.
Общества по
сбору
лицензионных
платежей
Чтобы
реализовать
потенциальные
преимущества
защиты
авторских
прав,
некоторые
развивающиеся
страны
создали коллективные
управляющие
общества,
представляющие
художников,
авторов и
артистов,
которые
собирают
лицензионные
платежи за
лицензирование
защищенных
авторскими
правами
работ,
внесенных в
списки таких
обществ. В
настоящее
время по
такому пути
пошло лишь
меньшинство
развивающихся
стран, и на
тему
преимуществ
и
недостатков
таких обществ
существуют
разные
мнения. Их
активно
поддерживают
ВОИС,
некоторые
спонсорские
организации,
а также
правительства
некоторых
развивающихся
стран
(например,
стран
Карибского
бассейна). В
развитых
странах
индустриальные
группы с
защитой
авторских
прав также
утверждают,
что создание
в
развивающихся
странах
таких
организаций
репрографических
прав будет
способствовать
расширению
доступа к
защищенным
работам
благодаря
подбору
ставок за
производство
копий
определенных
работ в
соответствии
с условиями
на местных
рынках.
С другой
стороны,
некоторые
комментаторы
утверждают,
что, хотя
такие
организации
развивающихся
стран и
собирают
лицензионные
платежи для
местных
авторов и
художников,
они, скорее
всего,
собирают
гораздо
больше
средств для
иностранных
правообладателей
из развитых
стран,
которые,
зачастую, господствуют
на рынках
работ,
защищенных
авторскими
правами. К
примеру, в
Южной Африке,
где положение,
быть может,
более
благоприятное,
чем в
низкодоходных
развивающихся
странах, местная
Организация
прав по
драматическим,
художественным
и
литературным
произведениям
(ОПДХЛ)
собрала
всего около 74000
евро для
местных
правообладателей,
из которых около
20000 евро было
получено от
иностранных
управляющих
обществ; в то
же время,
около 137000 евро было
собрано для
иностранных
правообладателей.[281]
Важно также
понимать, что
коллективные
управляющие
организации
могут обрести
существенную
рыночную
силу и вести себя
так, что
конкуренция
станет
невозможной.
Это может
стать
предметом
озабоченности
для
развивающихся
стран со
слабыми институтами
и
нормативными
рамками.
Развивающимся
странам, в
конце-концов,
придется
самим судить,
есть ли
преимущества
в создании
коллективных
организаций
управления. В
развивающихся
странах с
крупными
рынками своей
продукции и защитой
авторских
прав как
внутри
страны, так и
за границей,
создание
таких
учреждений
может
принести
финансовую
выгоду
владельцам авторских
прав. В других
же странах
чистые
преимущества
для жителей
страны, в
отличие от
преимуществ
для иностранцев,
могут быть
незначительными,
не оправдывая
соответствующих
затрат. В
любом случае,
с самого
начала
необходима
полная прозрачность
в отношении
затрат на
создание и
фунционирование
таких
организаций
в развивающихся
странах,
которые
должны
функционировать
за счет
владельцев авторских
прав,
непосредственно
получающих
выгоду от существования
таких
организаций.
Более того,
вероятно, нет
смысла
создавать
организации
коллективного
управления,
если
параллельно
этому не устанавливается
надлежащим
образом
функционирущего
механизма
защиты
авторских прав
и
арбитражных
судов по
внедрению
конкуренции.
Хотя в
некоторых
случаях
потенциальные
выгоды от
развития
отраслей с
защитой авторских
прав могут в
ряде
развивающихся
стран выглядеть
заманчиво,
глядя на
факты, трудно
не придти к
заключению,
что в
развивающемся
мире в целом,
сильная
защита
авторских
прав скорее
всего будет
иметь
отрицательные
последствия
для
большинства
бедных слоев
населения.
Сегодня
существует
огромная
«пропасть
знаний» между
богатыми и
бедными
странами.
Всемирный
Банк отметил
следующее:
«Если
пропасть
знаний
расширится,
то мир не только
еще больше
разделится в
отношении капитала
и ресурсов,
но также и в
отношении знаний.
Все больше
капитала и
других
ресурсов
потечет в
страны с
сильной
базой знаний,
что еще
больше
усилит
неравенство.
Существует
также
опасность
расширения
пропасти
знаний и
внутри стран,
особенно
развивающихся,
где
несколько
счастливчиков
выходят на Интернет,
а остальные
остаются
безграмотными.
Однако
недостатки и
новые
возможности
здесь две
стороны
одной медали.
Если мы сможем
сократить
пропасть
знаний и
заняться информационной
проблемой
то, возможно,
удастся
поднять
доходы и
уровень
жизни гораздо
быстрее, чем
казалось
раньше»[282].
В
дальней
перспективе
сильная
защита авторских
прав может
помочь
стимулировать
культурные
отрасли
развивающихся
стран, при
выполнении и
других
условий, влияющих
на их успех,
однако, в
краткосрочной
и среднесрочной
перспективах
она,
вероятно,
снизит
способность
развивающихся
стран и
бедных слоев
населения сократить
эту пропасть
с помощью
доступных
учебников,
необходимой
научной
информации и
компьютерного
программного
обеспечения.
ПОЗВОЛЯТ ЛИ
ПРАВИЛА
ЗАЩИТЫ
АВТОРСКИХ
ПРАВ РАЗВИВАЮЩИМСЯ
СТРАНАМ
СОКРАТИТЬ
«ПРОПАСТЬ ЗНАНИЙ»?
Теоретически,
правила
международной
защиты
авторских
прав должны
быть в
состоянии
решить
проблему
доступа,
потому что в
определенных
обстоятельствах
они дают странам
возможность
вводить в
национальные
законодательства
исключения
по защите
авторских
прав и
соответствующие
послабления.
Так,
например,
Статьи 9 и 10
Бернской
конвенции позволяют
странам, без
разрешения
автора, допускать
ограниченное
копирование
защищенных
работ в
целях,
определенных
национальным
законодательством,
таких как
обучение, научно-исследовательская
деятельность
и
частное
пользование
в той мере, в
какой это не
мешает
обычному
использованию
владельцем
авторских
прав (см.
Врезку 5.1).
Врезка
5.1
«Справедливое
использование»
и
«справедливая
деятельность»
в цифровом
веке
Для
уравновешивания
исключительных
прав авторов
и других
художников
и творческих
людей, с
одной
стороны, с
социальными
задачами
широкого
распространения
знаний, с
другой,
правила
международной
защиты
авторских
прав позволяют,
при
определенных
обстоятельствах,
накладывать
ограничения
на права по предотвращению
неутвержденного
использования
и
воспроизводства.
Например,
статья 9,
пункт 2
Бернской
конвенции
утверждает,
что «Законодательство
стран Союза в
определенных
особых
случаях
может
разрешать
воспроизводство
таких работ,
при условии,
что это не
противоречит
их разумному
использованию
и не оказывает
отрицательного
воздействия
на законные
интересы
автора».
В
соответствии
с этим,
национальные
законодательства
по защите авторских
прав большинства
стран имеют
исключения,
касающиеся
копирования
для личного
пользования,
научно-исследовательской
деятельности,
образования,
архивного
копирования,
библиотечного
пользования
и новостных
сообщений на
основе
принципа
«справедливой
деятельности»
или - в США -
«справедливого
использования».
Из-за разных
национальных
законов и
прочих
обстоятельств
объемы, сила
и гибкость
этих
исключений в
разных странах
и регионах
разные, но, в
целом, упор
делается на
следующие
условия:
·
Цель и
характер
использования
копирование
должно быть частным
и
некоммерческим.
Воспроизводить
можно лишь
одну или
небольшое
число копий.
·
Доля
копируемой
работы
копируют
лишь часть
работы.
Полные
работы
копируют
лишь там, где
на рынке нет
оригиналов.
·
Копии
печатных опубликованных
работ, как
правило,
производят
только с
помощью
репрографического
процесса.
Позволяется
также делать
и копии
электронных
работ,
например, при
записи телепрограмм
или при
архивировании
компьютерного
программного
обеспечения.
·
Если
предусмотрены
исключения,
главным
образом для
библиотек и
архивов, то
такие
учреждения
должны быть
общедоступными
и не
заниматься
коммерческой
деятельностью.
·
Необходимо
учитывать
законные
интересы правообладателя,
и как это
отразится на
потенциальном
рынке для его
работы.
Развитие
и
распространение
цифровой технологии,
однако,
позволяет
сегодня бесплатно
получать
неограниченное
число контрафактных
совершенно
неотличимых
от оргинала
копий и
почти
мгновенно
распространять
защищенные
работы по
всему миру. Отрасли
с защитой
авторских
прав отреагировали
на это
применением кодирующих
цифровых
технологий,
противообходными
мерами, контрактным
законодательством
и специфическими
формами
защиты баз
данных.
Критики утверждают,
что эти меры,
фактически,
ограничивают
«справедливое
использование»
и могут
снизить
доступ учителей,
студентов,
научных
сотрудников,
исследователей
и
потребителей
к информации,
особенно в
развивающихся
странах. С их
точки зрения,
нужны новые
подходы к
обеспечению
«справедливого
использования»
в контексте
цифровой
технологии.[283]
На
Стокгольмской
конференции
Бенской конвенции
1967 года
развивающиеся
страны - в рамках
международных
правил
защиты
авторских
прав -
пытались
добиться
дополнительной
гибкости,
утверждая,
что им
необходимо
осуществлять
программы
массового
образования.
Конференция
выработала протокол,
позволяющий
развивающимся
странам
снизить срок
защиты
авторских
прав до 25 лет,
ввести
принудительное
лицензирование
перевода на
местные
языки, а
также (это положение,
вызвало
больше всего
споров)
предусмотреть
защищенное
использование
для целей
образования
и
научных-исследований.
Однако из-за
разногласий
между
развитыми и
развивающимися
странами
Стокгольмский
протокол
никогда не
был
ратифицирован. В 1971 году
в Париже
все-таки было
достигнуто соглашение
по
«разбавленным»
исключениям
для развивающихся
стран,
которые, в
основном,
позволили ввести
ограниченное
принудительное
лицензирование
работ для
перевода на
местные
языки. Эти
положения
изложены в
Приложении к
Конвенции, но
они не дали
почти
никаких
непосредственных
преимуществ
развивающимся
странам, что
видно хотя бы
из того
факта, что лишь
очень
немногие
развивающиеся
страны
включили
такие особые
положения в свои
национальные
законодательства.[284]
Центральным
вопросом
здесь
является вопрос
о том, могут
ли исключения
и
ограничения
в рамках
существующих
международных
правил
позволить развивающимся
странам
добиться
необходимого
равновесия
между
защитой
авторских
прав и своими
особыми потребностями
развития. В
этом
отношении имеются
определенные
основания
для сомнений.
По словам
видного
международного
эксперта в
области
защиты
авторских прав:
«Там, где
развивающиеся
страны
решили заняться
областью
международной
защиты авторских
прав, они, в
целом,
увидели, что
существует
значительная
пропасть
между тем,
что им
необходимо
для решения
своих
[образовательных
и
информационных]
задач и
стандартами
защиты по
многосторонним
документам, таким
как Бернская
конвенция. [285]
Действительно,
наши
консультации
с заинтересованными
сторонами, а
также обзор
имеющихся
данных фактически
указывают на
то, что
самыми
серьезными
проблемами
являются
доступность
образовательных
материалов,
когда
местные издательства
и
спонсорские
программы не
могут
удовлетворить
спрос; а
также доступ
к компьютерному
программному
обеспечению
необходимому
условию
получения
информации и
конкурентоспособности
в условиях
глобальной
экономики.
Цифровой век
открывает
перед развивающимися
странами
большие
возможности
доступа к
информации и
знаниям.
Разработка
цифровых
библиотек и
архивов,
интернетные
дистанционные
программы
обучения и
возможность
для ученых и
исследователей
выйти на
совершенные
он-лайновые
компьютерные
базы данных по
технической
информации в
реальном масштабе
времени
лишь
некоторые из
возможных
здесь
примеров.
Цифровой век,
однако, несет
и достаточно
серьезную
угрозу в
отношении
доступа к
знаниям и их
распространения.
Существует, в
частности,
реальный
риск того,
что потенциал
Интернета
для
развивающихся
стран может
быть утерян в
связи с тем,
что правообладатели
начнут
пользоваться
технологией
платных
интернетных
систем для
предотвращения
общественного
доступа к
соответствующей
информации.
ОТРАСЛИ,
СВЯЗАННЫЕ С
ЗАЩИТОЙ
АВТОРСКИХ ПРАВ,
И
КОНТРАФАКТНЫЕ
КОПИИ
Как
отмечалось в
начале
настоящего
раздела,
отрасли,
основанные
на защите
авторских
прав, такие
как
издательское
дело и
компьютерное
программное
обеспечение,
играют важную
роль в
глобальной
наукоемкой
экономике, а
их продукция
и услуги
играют
центральную
роль,
способствуя
инновациям и
общему социально-экономическому
развитию.
Успех таких
отраслей
отражен в их
огромном
росте, что
привело к
созданию
миллионов
высокооплачиваемых
рабочих мест
и
миллиардным
прибылям, в
том числе и в
некоторых
развивающихся
странах.
Индустрия
компьютерного
программного
обеспечения
сама по себе
также очень
важный источник
инноваций, а
те, кто в ней
работают,
утверждают,
что за
последнее
десятилетие
они резко
улучшили
работу и
функциональность
многих
коммерческих
программ, при
этом цены
оставались
стабильными
или даже
снижались.
Представители
этих
отраслей
подчеркивают
важность
законодательства
по защите авторских
прав и
сильной
защиты
против контрафактного
копирования,
видя в ней
стимул для
инвестиций в
творческие
работы и новаторство,
а также в
техническое
развитие. Масштабы
таких
инвестиций в
развитие
творческих
работ и
доведение их
до рынка,
несомненно,
значительны.
Например, в
соответствии
с данными
Ассоциации
издателей в
настоящее
время в
Великобритании
находится в
печати около
600000 книг.
Это очень
ценные
информационные
ресурсы для
новаторских
отраслей и всего
общества.
Такие
отрасли,
разумеется,
должны быть в
состоянии
вернуть
инвестиции
для оплаты
выпуска
наукоемкой
продукции следующего
поколения.
Так,
например, в
индустрии
компьютерного
программного
обеспечения
говорят, что
лицензионные
платежи за их
продукцию
позволяют
компаниям
получать
доход для
финансирования
будущей
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности.
Предотвращение
контрафактного
копирования
всегда было
основной
задачей
развития
международных
правил
защиты
авторских прав,
и в этом плане
ничего не
изменилось.
Неутвержденное
контрафактное
копирование
(которое владельцы
авторских
прав, обычно,
называют более
уничижительным
словом
«пиратство»)
имеет
длительную
историю и
остается
международным
феноменом и в
развитых и в
развивающихся
странах. США,
например,
мотивировали
свой упорный
отказ в
предоставлении
защиты
авторских
прав
иностранным
авторам на
протяжении
всего 19-го
века тем, что
это было
необходимо
для
распространения
знаний и
народного просвещения.
Интересно,
что согласно
данным этой
индустрии,
больше всего
контрафактного
копирования
происходит в
развивающихся
странах и
странах с
переходной
экономикой,[286] но самые
ощутимые
финансовые
потери для правообладателей
- ввиду
гораздо
больших объемов
рынка - в
развитых
странах.[287] С
приходом цифрового
века в
отраслях,
связанных с
авторскими
правами,
появились
опасения, что
они теперь
смогут
продавать
«лишь один
экземпляр»
новой
электронной
книги, фильма
на DVD, музыки
на
компакт-диске
или
компьютерной
программы,
после чего, в
результате
контрафактного
копирования
и
бесплатного
получения
неотличимых
от оригинала
копий, они затем
легко и
беспрепятственно,
по компьютерным
сетям и
Интернету
разойдутся
по всему
миру.
Есть,
однако,
определенные
признаки
того, что в
прошлом
слабый
уровень
защиты авторских
прав и
правоприменения
оказали - в
определенных
случаях,
таких как
компьютерное
программное
обеспечение -
значительное
воздействие
на
распространение
знаний и основанной
на них
продукции в
развивающихся
странах.
Более того, в
определенных
случаях можно
даже
утверждать,
что многие
представители
бедных слоев
населения в
развивающихся
странах
смогли
получить
доступ к
некоторым
защищенным
авторскими
правами
работам, лишь
благодаря
контрафактному
копированию
и наличию
дешевых
копий, во
много раз дешевле
стоимости
оригинала.
Мы, поэтому,
озабочены непреднамеренными
последствиями
усиления
международной
защиты
авторских
прав и правоприменения,
как того
требует,
среди прочего,
ТРИПС, что
может в
развивающихся
странах
попросту
привести к
затруднению
доступа к продукции
на основе
знаний, с
соответствующими
отрицательными
последствиями
для бедных
слоев
населения.
Реагируя
на эти
моменты,
представители
отраслей с
защитой
авторских
прав
указывают на
свои особые
инициативы и
обязательства
в отношении
развивающихся
стран, такие,
как
благотворительные
схемы дарения
и
«низкобюджетные»
дешевые
издания книг
и
компьютерных
программ,
утверждая, что
это и есть
путь вперед,
который
предпочтительней
ослабления
международных
правил
защиты
авторских
прав и
правоприменительных
мер в
развивающихся
странах.
Например,
издательская
индустрия
поддерживает
теперь растущее
число
инициатив,
направленных
на облегчение
в
развивающихся
странах
доступа к
книгам и
журналам, и
создание партнерств
с издателями
менее
развитых стран
для
поощрения развития
местных
издательств.[288] Точно
так же, в
компьютерной
промышленности,
ведущая
фирма
программного
обеспечения
бесплатно
дала Южной
Африке 32000
экземпляров
программ для
государственных
школ, чтобы
помочь
южноафриканским
учителям и школьникам
ознакомиться
с
информационной
технологией,
одновременно
способствуя
созданию для
себя будущего
рынка.
Но
коммерческие
компании, по
существу, ответственны
лишь перед
своими
акционерами
они не
благотворительные
общества и не
собираются
ими
становиться.
Поэтому они
считают, что
правительства
развитых стран
и
организации
развития
должны
удовлетворять
запросы
развивающихся
стран по субсидированному
доступу к
работам с
защитой
авторских
прав в
образовательных
целях и для
передачи
знаний. Как
отмечалось в
отчете 1977 года,
представленного
на
рассмотрение
британского
парламента, а
также в
недавнем решении
британского
арбитражного
суда по защите
авторских
прав, до сих
пор никто еще
не предлагал,
чтобы
изготовители
тетрадей, циркулей
и линеек
бесплатно
отдавали их учебным
заведениям.[289]
Почему же
тогда
представители
отраслей с
защитой
авторских
прав должны
мириться с
широкораспространенным
контрафактным
копированием
книг, журналов,
компьютерных
программ и
научных баз данных?
Нужно
внимательно
изучить эти
аргументы. Мы
признаем
ценность
добровольных
инициатив отрасли
в пользу
развивающихся
стран и считаем,
что здесь
можно
сделать
больше. Но, на
основании
наших
наблюдений,
проведенных
в ряде
развивающихся
стран, мы, в
целом, далеко
не убеждены в
том, что даже
с точки
зрения правообладателей,
цена
соответствующих
продуктов
оптимальна. В
той мере, в
какой на копирование,
особенно в
коммерческих
масштабах,
влияет
отношение
продажной
цены к стоимости
производства
копий, в
развивающихся
странах
должно быть
место для
использования
более
дифференцированного
бесприбыльного
и даже
прибыльного
подхода к
ценообразованию
в
соответствующих
отраслях. Тот
факт, что
издатели
готовы
поддерживать
разнообразные
схемы
бесплатного
или удешевленного
доступа для
учреждений
развивающихся
стран к он-лайновым
публикациям,
указывает на
возможность
дифференцированного
ценообразования,
при
соответствующих
мерах
предосторожности.
В то время,
как мы
полностью
признаем,
что, как и в
других
отраслях,
владельцы
работ с
защитой
авторских
прав вправе рассчитывать
на
соответствующий
возврат на
свои инвестиции,
мы все же
считаем, что,
с более
широкой
точки зрения
общественной
политики, не
менее важно
также
обеспечить
такое положение,
при котором
доступ к
знаниям
среди жителей
развивающихся
стран важен
для них в той же
мере, в какой
для них важен
доступ к любым
другим
предметам
первой
необходимости,
таким как
продовольствие,
вода и
медикаменты.
Для нас
совсем не
очевидно, что
издатели и
разработчики
программного
обеспечения
сумели
добиться
правильного
баланса между
облегчением
доступа к
знаниям в
развивающихся
странах и
обязательствами
перед своими
акционерами.
Издателям
обыкновенных
и он-лайновых
книг и
журналов, а
также
разработчикам
программного
обеспечения,
необходимо
пересмотреть
свою
ценовую
политику с
тем, чтобы
привести к
сокращениюДля
снижения
масштабовов
неутвержденного
копирования продукции
без их
согласия и
облегчитьения
доступа к
своей
продукции в
развивающихся
странах,
издателям, в
том числе
он-лайновым,
и разработчикам
программного
обеспечения
необходимо
пересмотреть
свою ценовую
политику.
Часть
издателей
осуществили
в развивающихся
странах
ценные
инициативы
по расширению
доступа к
своей
продукции, и
мы положительно
относимся к
таким схемам.
Расширение
инициативы
по
бесплатному
он-лайновому
доступу к научным
журналам -
хороший
пример того,
что можно
сделать в
этом
направлении.
ЗАЩИТА
АВТОРСКИХ
ПРАВ И ДОСТУП
Образовательные
материалы
В
последние
годы в
развивающихся
странах происходило
расширение
начального и
среднего
образования,
и помощь,
естественно,
предоставлялась
преимущественно
в этих
секторах.
Несмотря на
значительные
препятствия
на пути
достижения
задач программы
«Образование
для всех»,
развивающиеся
страны и их
партнеры-спонсоры,
тем не менее, добились
существенного
прогресса.[290] Доступ к
книгам и
материалам
для чтения на
уровне начального
и среднего
образования
в некоторых
странах
также
улучшился.
Это -
результат роста
уровня
общественных
затрат на
начальное
образование
и
международных
программ
дарения книг,
таких как
Международная
книжная программа
помощи. Важно
также и то,
что в некоторых
странах
местным
издательствам,
даже
созданным
совсем
недавно,
удается
выпускать
школьные
учебники и
материалы
для чтения по
низкой цене.[291]
Доступ
к книгам и
учебным
материалам,
однако, все
еще
представляет
собой для
многих
развивающихся
стран реальную
проблему. В 1999
году
исследование,
предпринятое
Ассоциацией
развития
образования
в Африке
(АРОА -
консорциум
спонсоров и развивающихся
стран),
показало, что
нехватка
насущных,
дешевых книг
для школы и
дома продолжает
оставаться
препятствием
на пути
качественного
образования.
Результаты этого
обследования
АРОА
представляют
собой
довольно
печальную
картину:
«Продолжается
положение с
неравным
доступом к
обучению и
учебным
материалам, а
также
неадекватное
предоставление
материалов
для чтения,
чрезвычайно
важных для
ликвидации
неграмотности
и развития
навыков
чтения, и
неприемлемое
соотношение
числа
учеников к
числу книг.
Африканские
издатели
продолжают
проигрывать
в
экономическом
контексте,
где преимуществом,
за счет
местных
публикаций,
пользуются
импортеры
книг»[292].
Доступ
к книгам и
материалам,
однако, важен
и в других
областях
системы
образования.
Развивающимся
странам
нужны
образованные
люди - врачи,
медсестры,
юристы,
ученые и исследователи,
инженеры,
экономисты,
учителя и
бухгалтера.
Без таких
специалистов
и системы
постоянного
повышения квалификации
и навыков на
протяжении
всей трудовой
жизни,
развивающимся
странам сложно
будет
осваивать
новые
технологии,
создавать
инновации и
конкурировать
в глобальной
наукоемкой
экономике.
Например,
даже если
развивающиеся
страны и
смогут
получать
дешевые
медицинские
препараты, им
все равно
нужны будут
врачи и
медсестры
для
правильного использования
препаратов и
спасения человеческих
жизней.
Однако,
во многих
развивающихся
странах,
особенно в
Африке, к югу
от Сахары, высшее
образование
упало до
уровня, при
котором
скоро уже
нельзя будет
обеспечить даже
минимального
образования
и научно-исследовательской
деятельности
это в то время,
когда спрос
на такое
образование
постоянно
растет.[293]
Многие
развивающиеся
страны тратят
существенную
долю своего
ВНП на
образование,
и, возможно,
не в
состоянии
выделить дополнительные
средства,
нужные для
поддержания
даже
нынешнего
уровня
высшего образования,
не говоря уже
об его
улучшении. Защита
авторских
прав,
разумеется,
здесь не единственная
проблема;
слабая
инфраструктура
высшего
образования,
высокие цены
на книги и
учебные
материалы,
ограниченный
доступ к
Интернету
все это
важные аспекты
общей
картины
углубляющегося
кризиса.
Есть
определенные
указания на
то, что в
области высшего
образования
доступ к
книгам и
другим учебным
материалам и
научно-исследовательской
деятельностит
остается
критически
важной
проблемой во
многих
развивающихся
странах,
особенно в
самых бедных.
Большинство
развивающихся
стран
продолжают
во многом зависеть
от импорта
учебников и
справочников,
поскольку
местные
издательства
зачастую не
видят для
себя
никакого
коммерческого
смысла
выходить на
этот сегмент
рынка. Цена
на них не по
карману
большинству
студентов.
Библиотеки
Университетские
библиотеки
должны играть
ключевую
роль в
научно-исследовательской
деятельности
и
обеспечении
доступа бедных
студентов
развивающихся
стран к книгам,
журналам и
он-лайновым
материалам с
защитой
авторских
прав, хотя,
как правило,
дело здесь
обстоит
плохо. В ряде
стран
спонсорские
организации
обеспечили
финансирование
пополнения
библиотек
современными
материалами,
а также
обеспечили
выход на Интернет
и
ксерокопировальное
оборудование.[294] Срочно
необходимо
расширение
такой помощи,
но спонсорские
организации,
зачастую, в
силу бюрократичности,
действуют
чересчур
медленно, так
что
библиотеки
не в
состоянии
пополнять
запасы
новейшими
учебниками. В
целом, положение
с
университетскими
библиотеками
в бедных
развивающихся
странах
остается
неприглядным[295],
особенно в
Африке. В
недавнем
отчете ЮНЕСКО
говорится:
«Ухудшение
экономического
положения в
африканских
странах в
последнее
десятилетие
катастрофически
отразилось
на качестве
библиотечного
обслуживания
в научных учреждениях,
которые
почти все финансируются
государством.
Большинство
не могут
позволить
себе покупку
новых книг, большая
часть
подписки на
периодику
также была
отменена.
Учитывая
также и
невозможность
переключиться
на новую
информационную
технологию,
будущее для
африканских
университетских
библиотек и
вообще
африканских
научных
сотрудников
выглядит
неприглядным»[296].
Во
время наших
консультаций
мы установили,
что даже в
случае лучше
финансируемых
университетских
библиотек в
развивающихся
странах,
например, в
Южной Африке,
иногда возникают
серьезные
затруднения
с
получением разрешений
на работы,
защищенные
авторскими
правами, и с
уплатой
лицензионных
платежей по
материалам,
необходимым
преподавателям
и студентам.
Мы также
обнаружили,
что даже эти,
лучше
финансируемые
библиотеки
вынуждены
были резко
снизить
объемы
подписки на
научные
журналы из-за
высокой
стоимости
возобновления
журнальных
подписок.
Заметим также,
что даже
хорошо
финансируемые
библиотеки
развитых
стран
испытывают
крайние трудности
с
пополнением
всего набора
журналов, на
которые
расчитывают
их научные
сотрудники и
студенты. В
развитых
странах
быстрый рост
подписной
цены на
научные
журналы и продолжающееся
укрупнение
издательского
дела привели
к активным
дебатам о
доступе к
необходимым
материалам и
развитии
альтернативных
он-лайновых
изданий,
таких как BioMed Central.[297]
Но
развивающимся
странам
нужна также
большая
свобода в
отношении
права
ослабить международные
правила
защиты
авторских прав
для целей
образования
и
научно-исследовательской
деятельности.
Как мы уже
отмечали,
делегаты
Стокгольмской
конференции
предложили
такой пакет
поправок к
Бернской
Конвенции
еще в 1967 году.
Развитые
страны
отвергли эти
предложения,
потому что
сочли их
радикальным
ограничением
защиты
авторских
прав.
Рассматривая
эти
предложения
теперь, 30 лет
спустя,
становится
ясно, что особые
положения
для
развивающихся
стран,
введенные в
Бернскую
конвенцию в 1971
году и
изложенные в
приложении к
ней,
оказались
неэффективными.
Необходимы,
следовательно,
дополнительные
реформы,
причем
различные
меры могут
иметь
большее или
меньшее
значение для
каждой страны,
в
зависимости
от ее
конкретных
потребностей.
Один из
комментаторов
сказал на эту
тему
следующее:
«В
некоторых
случаях
сильно
помогает
доступ к
научным
журналам и
книгам по
субсидированным
ценам на
ограниченный
период.. В
других
местным
издателям с ограниченным
рынком нужен
легкий и
недорогой
доступ к
иностранным
книгам, чтобы
перевести их
на свой язык.
В контесте
некоторых
стран бывает,
что
требуется
разрешением перепечатать
книги
промышленно
развитых
стран на
английском
или
французском
языке для коренного
населения,
способного
читать на
этих языках,
но не в
состоянии
платить импортных
цен. А в
некоторых
странах
вообще не хватает
многих
элементов
издательской
индустрии, и
все надо
создавать с
самого начала.
Защита
авторских
прав может и
не быть ключевым
элементом
при всех
таких
обстоятельствах,
но она играет
свою роль.[298]
Для
облегчения
доступа к
работам с
защитой
авторских
прав, а также
в
образовательных
целях и для
распространения
знаний, развивающиеся
страны
должны
принять у
себя, в
рамках законов
по защите
авторских
прав,
положения по
поощрению
конкуренции.
В своих
национальных
законах по защите
авторских
прав
развивающиеся
страны
должны
предусмотреть
широкие
классы
исключений
для образовательных
целей, научных
исследований
и для
библиотек. Внедрение
в
развивающихся
странах
международных
стандартов защиты
авторских
прав должно
соответствовать
осознанию
того факта,
что доступ к
продукции с защищенными
авторскими
правами
должен быть
облегчен
ввиду ее
важности для
социально-экономического
развития в
целом.
ЗАЩИТА
АВТОРСКИХ
ПРАВ И
КОМПЬЮТЕРНОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Как
было
отмечено
другими
авторами,
между развитыми
и
развивающимися
странами существует
цифровая
пропасть. В
наукоемкой глобальной
экономике
компьютерные
технологии
являются
необходимым
условием
доступа к
информации и
ее использованию,
а также
средством
ускоренной
передачи
технологии,
экономического
роста
и более
высокой
производительности
труда.
В то же
время,
компьютерные
программы,
вероятно,
относятся к
наиболее
защищенным
формам
наукоемкой
продукции. По
соглашению
ТРИПС, на
компьютерные
программы
теперь распространяется
защита
авторских
прав, аналогичная
защите
литературных
работ, а также
- в некоторых
странах,
таких как
США - другие
формы защиты
ИС, включая
патенты.
У
развивающихся
стран,
разумеется,
есть потребность
в широком
наборе
компьютерных
прикладных
программ для
промышленных
отраслей,
больниц, школ
и
правительственных
учреждений. В
большинстве
случаев,
однако, им
нужны, по
доступным
ценам,
готовые
программные
пакеты, такие
как
текстообработочные
программы, программы
табличных
вычислений,
электронная
почта и
интернетные
броузеры. На
глобальном
рынке такой
продукции
доминируют компании
Европы и
Северной
Америки,
самой значительной
из которых
является
«Майкрософт».
Среди программных
пакетов
почти не
бывает
программного
набора,
произведенного
в развивающихся
странах, даже
таких, как
Индия.[299]
В
компьютерной
индустрии
защита
авторских
прав важнее
всего в
области
готовых программных
пакетов для
бизнеса. В
отличие от
особых «скроенных»
программ, эти
продукты
массового рынка
можно легко
копировать.
Защита
авторских
прав дает
компаниям
возможность
предотвратить
копирование,
ограничить
конкуренцию
и взимать за
продукцию
монопольные
цены. В развивающихся
странах это
приводит к
двум видам
основных
проблем.
Во-первых,
поскольку в
настоящее
время там широко
распространено
копирование,
а покупная
способность
местного
населения в развивающихся
странах
низка, то
многие выражают
озабоченность
в отношении
того, что
более
сильная
защита и правоприменение
могут
привести к
ограничению
распространения
указанной
технологии.
Такой риск
особо высок,
потому что
сетевой
эффект
программных
приложений
для бизнеса
приводит к
доминантности
существующих
программ. Рассмотрев
эту проблему,
однако, мы
пришли к
выводу, что -
при условии
осуществления
необходимых
шагов в
развивающихся
странах можно
преодолеть
все эти
препятствия.
Например,
правительства
и
спонсорские
организации
могут
пересмотреть
политику
закупок программного
обеспечения
в пользу
более дешевых
бизнес-программ,
включая
широкодоступные
схожие
программы и
программы с
открытым
источником.[300]
Вторая
проблема
здесь
заключается
в том, что код
источника
программ
также
защищен. Это
затрудняет
местную
адаптацию программ
и может также
ограничить
конкуренцию
в области
развития
промежуточных
приложений, с
последующими
инновациями
на основе
обратного
проектирования.
По ТРИПС,
развивающимся
странам
предоставлена
гибкость в
области
обратного
проектирования
программного
обеспечения,
так что - при
соответствующей
формулировке
положений о
защите
авторских
прав в
национальном
законодательстве
- можно
избежать
этих
трудностей. В
качестве еще
одного
практического
шага можно
можно шире
использовать
разнообразные
программы с
открытым
источником[301] , когда, в
отличие от
фирменных
программ, код
источника
общедоступен.[302]
В
качестве
альтернативы,
некоторые
представители
индустрии
утверждают,
что, при строгом
правоприменении
авторских
прав, владельцы
программ с
закрытым
источником могут
скорее
согласиться
предоставить
коды
разработчикам
программного
обеспечения
в
развивающихся
странах.
Рекомендации
по вопросам
политики
закупок
развивающимися
странами
компьютерного
программного
обеспечения
явно выходят
за рамки
нашего
задания.
Например, в
то время, как
дешевые
программы
или программы
с открытым
источником
могут изначально
быть дешевле
фирменного
программного
обеспечения,
на затраты,
помимо лицензионных
платежей,
могут
повлиять и
многие другие
факторы,
такие, как
стоимость
приспособления
системы к
конкретным
потребностям
пользователя
или затраты
на
обслуживание
системы. При
всем этом,
однако,
учитывая
существенную
потребность
развивающихся
стран в
информационной
и
коммуникационной
технологии
и
ограниченные
фонды в их распоряжении,
правительствам
и
спонсорским
организациям,
по-видимому,
обязательно
стоит
рассмотреть
возможность
информирования
пользователей
о
существовании
более
дешевых
вариантов,
включая
использование
в развивающихся
странах
программного
обеспечения
с открытым
источником.
Развивающиеся
страны и их
партнеры-спонсоры
должны
проанализировать
свою политику
в области
приобретения
компьютерных
программ,
рассмотрев
возможность
и взвесив
выгоды и
издержки
использования
дешевых
программ
и/или
открытого
программного
обеспечения. Развивающиеся
страны
должны иметь
национальные
законы по
защите
авторских
прав, позволяющие
осуществлять
обратное
проектирование
программ за
пределами
требований
функциональной
совместимости,
в рамках
подписанных
ими
международных
соглашений
по ИС.
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНТЕРНЕТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
НА ПОЛЬЗУ РАЗВИТИЯ
Имеются
основания
надеяться на
то, что информационно-технологическая
революция может
способствовать
облегчению
доступа развивающихся
стран к
информации и
знаниям.
Быстрый
прогресс
двух
ключевых
технологий
хранения/обработки
цифровой
информации и
спутниковых/оптоволоконных
коммуникаций
помогают
быстрому и
дешевому доступу
к знаниям во
всем мире.
Главным
примером
здесь
является
рост
Интернета. В
середине 1993
года на
Интернете
было менее 200
веб-сайтов, в
конце же 2000
года их уже
было 20
миллионов;
ожидают, что
число
пользователей
Интернета достигнет
1 миллиарда к 2005
году, хотя
большинство
их
по-прежнему
будут в
развитых
странах
(ПРООН 2001). В
таблице 5.1
можно видеть
резкую разницу
между
развитыми, развивающимися
и наименее
развитыми
странами в
отношении
пользования
Интернетом.
Table 5.1
Интернетный
выход и связь
в развитых и
развивающихся
странах в 2000
году
|
|
Число
пользователей
Интернета
(млн)
|
Население
(млн)
|
Число
пользователей
Интернета
на 10000 человек
|
|
Развитые
страны
|
253.2
|
860
|
2944
|
|
Развивающиеся
страны
|
107.0
|
4500
|
238
|
|
Наименее
развитые
страны
|
0.7
|
780
|
9
|
|
Всего
|
360.9
|
6140
|
588
|
Источник:
МСЭ (2001),
приведено в Story (2002),
Приложение 4
Рост
Интернета
предлагает
развивающимся
странам реальную
возможность
улучшить
доступ к
знаниям и их
передаче.
Например,
растущие
объемы и
число
цифровых
библиотек
дают
беспрецендентную
возможность
доступа ко
всей опубликованной
информации в
любом месте
мира. В
будущем,
развивающиеся
страны
смогут создать
национальные
цифровые
сети для
доступа самых
удаленных
деревень
как это было
сделано в
Австралии - к
библиотечным
ресурсам всего
мира.[303]
Аналогичные
инициативы,
такие как Африканский
виртуальный
университет
(АВУ)
демонстрируют
потенциал
Интернета в
качестве
орудия
дистанционного
обучения в
развивающихся
странах. Со
дня
основания, в 1997
году, свыше 24000
студентов из
17
африканских
стран закончили
через АВУ
семестровые
курсы по технологии,
инженерному
делу, бизнесу
и научным
дисциплинам. АВУ
также дал
студентам
доступ к
он-лайновой
цифровой
библиотеке
со свыше 1000
полнотекстовыми журналами,
в настоящее
время на сайт
АВУ выходят
свыше 1
миллиона
человек в
месяц.[304]
Технологические
ограничения
Но
указанные
технологические
изменения несут
в себе также
и угрозу для
доступа и
распространения
знаний и
технологии. В
издательском
деле и отраслях
разработки
программного
обеспечения наблюдается
растущая
тенденция в
сторону
он-лайнового
распространения,
с ограниченным
доступом,
организованным
с помощью цифровых
управленческих
систем,
например
кодирования. Такие
совершенные
формы
технологической
защиты
выходят за
рамки
традиционного
права
«справедливого
пользования»,
допускающего
просмотр,
обмен и
частное
копирование
защищенных
работ,
представленных
в цифровом
формате,
поскольку
они могут
быть
недоступны
без оплаты,
даже при
законном
использовании.
В развивающихся
странах, где
выход на
Интернет
ограничен и
где подписка
на
он-лайновые ресурсы
недоступна,
этим может
быть вообще
исключен
доступ к
таким
материалам,
что возлагает
на указанные
страны
тяжелое
бремя, задерживая
их участие в
глобальной
наукоемкой
экономике.
C точки
зрения связи
этой
тенденции с
правилами ИС
и потенциала
Интернета
для развития
развивающихся
стран,
существуют
еще три
важных
дополнительных
фактора.
Во-первых,
договор ВОИС
о защите
авторских прав
устанавливает
новые
правила,
которые
вскоре могут
стать
международным
стандартом.[305]
Они четко
устанавливают
исключительные
авторские
права
владельцев
на он-лайновые
материалы и
конкретно
призывают все
страны
обеспечить
эффективные
средства правовой
защиты
против
обхода
технологических
средств по
ограничению
доступа для
неуполномоченных
лиц, а также в
случаях,
запрещенных
национальным
законодательством. В
апреле 2002 года
Договор
ратифицировали
35 стран, включая
Буркина-Фасо,
Мали и Габон.
Здесь важным
предметом
озабоченности
является тот
момент, что
на
развивающиеся
страны будет
оказано
давление,
например, в
рамках
двусторонних
соглашений с
развитыми
странами (см.
Раздел 8),
пытаясь
заставить их
присоединиться
к договору
ВОИС о защите
авторских прав
и даже ввести
более
строгие
запреты против
обхода
технологических
защитных систем,
таким
образом
фактически
сужая, в цифровых
случаях,
рамки
традиционного
«справедливого
пользования».
Принятый в
США 1998 году Акт
о защите
авторских
прав в
цифровом тысячелетии
(АЗАПЦТ) идет
еще дальше. В
частности, он
сильно
укрепил
аргументы
сторонников
использования
технологической
защиты,
запретив
обходить
указанные
технологические
средства
защиты
издателей и
разрабатывать
или
распространять
такие
устройства,
делая
указанные
действия
незаконными
даже в случаях,
раньше не
нарушавших
авторских права
(этим он
отличается
от Договора
ВОИС).
Все это, во
многом, идет
против принципов
«справедливого
пользования»,
созданных в
рамках защиты
авторских
прав, а также
принципа первой
продажи. В
случае книг
вы вправе
свободно
перепродать
книгу, в
аналогичном
же цифровом
случае это
может быть
невозможно из-за
технологических
защитных
средств. Технологическая
защита,
наконец,
неограничена
во времени, а
защита
авторских
прав
ограничена
(хотя этот
период,
по-видимому,
постоянно
растет).
Во-вторых,
определенные
отрасли
индустрии
«информационного
наполнения»
призывают правительства
принять
законодательство,
которое
потребует от
производителей
компьютерной
технологии
встраивать
устройства,
предотвращающие
контрафактное
копирование
работ в
цифровом
формате. Например,
Майкл Эйснер,
председатель
совета
директоров и
исполнительный
директор компании
«УолтДисней»,
в
опубликованной
25 марта 2002 года
статье в
газете «Файнэншл
Таймз» утверждал:
«Мы
сейчас стоим
на перепутье
основной
нашей целью
должно стать
сотрудничество
создателей
информационного
наполнения с
создателями
компьютерной
технологии
над
согласованием
соответствующей
технологии,
предотвращающей
контрафактное
копирование
и передачу
материалов с
защищенными
авторскими
правами.
Правительство
США должно
сыграть
здесь важную
роль, задав
разумную
окончательную
дату, после
которой -
если не будет
достигут
прогресс
оно введет
обязательные
технологические
стандарты
защиты работ
с авторскими
правами от
незаконного
использования».
В-третьих,
в отношении
научно-технических
электронных
баз данных,
развивающиеся
страны,
возможно,
будут
поощряться к
принятию
особого
режима
защиты ИС, в
дополнение к
ограниченной
защите по
ТРИПС и
Бернской
конвенции
(см. врезку 5.2).
Такой
специфический
защитный
режим был уже
введен в 15
странах Евросоюза
в 1996 году.[306]
Ввиду того,
что режим ЕС
обеспечивает
иностранцам
защиту лишь
на обоюдной
основе,
аналогичные
предложения
были также
представлены
и перед Конгрессом
США
несколько
лет назад
(например, проект
Акта 1996 года об
инвестициях
в базы данных
и
интеллектуальную
собственность
и по борьбе с
информационным
пиратством). На
дипломатической
конференции
ВОИС 1996 года ЕС
и США также
выдвинули
предложения
о международном
договоре по
защите баз
данных.
Врезка
5.2 Защита ИС в
случае баз
данных
В свете
глобального
распространения
компьютерной
информации,
защита ИС в
случае баз
данных
приобрела
особо важное
значение с
точки зрения
научно-исследовательской
деятельности,
инноваций и
творчества.
Прогресс информационной
и
коммуникационной
технологий
сделали
цифровые
базы данных
фактической
информации
важным
ресурсом
ускорения
роста знаний
и новых
открытий.
Расширение
Интернета способствовало
их широкому
распространению
и легкости
использования.
В то же время,
эти
технологии
упростили
неутвержденное
использование
и
крупномасштабное
незаконное
владение
такими
ценными
базами данных.
Главным
вопросом
здесь
является баланс
- с одной стороны,
интересов
создателей
баз данных, поощрения
и защиты
инвестиций в
новые базы
данных и
соответствующие
продукты и
обслуживание,
а с другой -
давно
существующих
гарантий
доступа к
таким базам
для научных и
образовательных
целей и
библиотек.
В большинстве
стран базы
данных
подпадают
под защиту ИС
через
торговые
знаки и
защиту авторских
прав (они
также могут
быть
фактически
защищены контрактами
между
пользователями
и теми, кто
предоставляет
эту форму
обслуживания).
Однако,
защита баз
данных в
рамках законодательства
по защите
авторских
прав ограничена.
Бернская
конвенция
защищает наборы
и коллекции
работ, но в
ней ничего не
говорится о
защите
коллекций
других материалов,
отличных от
работ,
которые сами
являются
предметом
защиты
авторских
прав. В известном
в США деле 1991
года Feist Publications Inc
против Rural Telephone Service Co.,
Верховный
Суд отказал в
защите
авторам телефонного
справочника
на том
основании, что
набор
фамилий,
адресов и
телефонных
номеров не
является
оригинальной
творческой
работой.
В ЕС, по
специфическому
(sui generis)
режиму,
введенному в
1996 году,
создатели
баз данных
вправе в
течение 15 лет
предотвращать
извлечение
из них
значительной
части содержимого,
хотя этот
период
защиты можно
возобновлять
при любых
существенных
изменениях. В
пользу
аргумента о
том, что все
это направлено
на защиту
инвестиций, а
не оригинальной
творческой
работы,
говорит то,
что для
защиты
создателям
достаточно
лишь показать,
что ими
произведены
«значительные
инвестиции» в
разработку
базы данных.
Преобразование
в цифровую
форму и
мгновенная
недорогая
глобальная
связь
открыли
огромные
новые
возможности
для
распространения
и
использования
научно-технических
баз данных в
развивающихся
странах и во
всем мире.
Сама
возможность
доступа, в
процессе научно-исследовательской
деятельности,
к существующим
базам данных
для
извлечения и
рекомбинации
определенных
областей
стала ключевым
элементом
научного
процесса. В
коммерческом
секторе,
однако,
стараются
контролировать
неутвержденный
доступ к
частным базам
данных для
того, чтобы
максимально
увеличить
доходы за
счет
подписки,
даже если
некоторые из
данных либо
общеизвестны,
либо собраны
в процессе
научно-исследовательской
деятельности
при
общественном
финансировании.
Нашим
главным
предметом
озабоченности
здесь,
следовательно,
является то,
что, поощряя
инвестиции в
новые
коммерческие
базы данных,
укрепление
защиты ИС в
отношении
баз данных на
международном
уровне может,
в то же время,
сильно
снизить
доступ к ним
ученых и
исследователей
из
развивающихся
стран,
которые, зачастую,
не в
состоянии
оплатить
свою подписку.
Ясно,
что
постоянно
возникают
новые вопросы,
касающиеся
доступа к
информации и
знаниям
через
Интернет. Для
многих
развивающихся
стран они
пока не еще
очень важны
из-за слабого
распространения
Интернета в
этих странах.
Однако,
интернетные
вопросы имеют
большое
значение для
университетов
и научно-исследовательской
деятельности
в развивающихся
странах. Они
могут вскоре
стать
важными
также и для
среднего и
начального
образования
в
развивающихся
странах,
поскольку доступ
к Интернету
обходится
намного
дешевле, чем
строительство
библиотек и покупка
книг.
Интернет
имеет
замечательный
потенциал
развития и
чрезвычайно
важно его не
упустить.
Необходим
дополнительный
анализ
наилучших
средств
защиты
цифрового
информационного
наполнения и
интересов
правообладателей,
при
соблюдении, в
то же время,
принципов
адекватного
доступа и
«справедливого
использования»
потребителями.
Более конкретно,
политическим
деятелям
необходимо
лучше понять
воздействие
он-лайнового
распространения
и
технологической
защиты
информационного
наполнения
на
развивающиеся
страны. Существует
возможность
того, что
многие из
таких
материалов
будут
защищены
технологически
или по
контрактам в
качестве условия
получения
доступа к
ним. Не
совсем ясно,
как в такой
обстановке
гарантировать
разумные требования
«справедливого
пользования».
Учитывая
значительный
уровень
неопределенности,
мы пришли к
заключению,
что в настоящее
время рано
еще
требовать от
развивающихся
стран
стандартов,
выходящих за
рамки ТРИПС.
Мы считаем,
что если нет
на то особых
причин - с точки
зрения
развивающихся
стран, вероятно,
неразумно
принимать
договор ВОИС
о защите
авторских
прав они
должны
оставить за собой
свободу
действий в
отношении
своих законодательных
мер по
технологической
защите.
Отсюда
следует, что
и
развивающиеся
и другие
развитые
страны не
обязаны
следовать
примеру
АЗАПЦТ в
запрете
обхода технологической
защиты. Мы, в
частности,
считаем, что
такое
законодательство,
как АЗАПЦТ,
сдвигает
равновесие в
сторону
производителей
материалов,
защищенных
авторскими
правами, за
счет
традиционно
существовавших
прав
пользователей.
Его
повторение в
глобальных
мастабах
может
нанести
большой
ущерб интересам
развивающихся
стран в
отношении
доступа к
информации и
знаниям,
необходимым
для их развития.
Точно так же
мы считаем,
что директива
ЕС по базам
данных
заходит чересчур
далеко в
обеспечении
защиты
наборов
материалов и
что она
чересчур
ограничит необходимый
развивающимся
странам доступ
к научным
базам
данных.
Пользователи
доступной на
Интернете
информации в
развивающихся
странах
должны быть в
состоянии
осуществлять
свое право
«справедливого
пользования»,
предполагающее
разумное
число
распечаток
электронных
материалов и
их распространение для
образовательных
и исследовательских
целей, а
также
разумное
использование
отрывков произведений
для
комментариев
и критики. Там,
где
поставщики
цифровой
информации или
программного
обеспечения
пытаются оправдать
сужение прав
«справедливого
пользования»,
ссылаясь на
какие-то
подрядные соображения,
связанные с
распространением
цифровых материалов,
соответствующие
пунктыположения
контрактов
можно, в
таких
случаях,
считать недействительными.
Когда
подобное
сужение прав
пытаются
осуществить
технологическими
средствами
защиты, меры
по их преодолению,
при таких
обстоятельствах,
не следует
считать
незаконными.
Развивающимся
странам необходимо
тщательно
обдумать
целесообразность
присоединения
к Договору
ВОИС о защите
авторских
прав. Им
также нет
необходимости
следовать за
США и
ЕС, принимая законы
типа АЗАПЦТ
или
Директивы по
базам данных.
Раздел 6
ПАТЕНТНАЯ
РЕФОРМА
ВВЕДЕНИЕ
В своем
первоначальном
«современном»
виде патентная
система, по
словам
американской
Конституции,
предназначалась
для «поощрения
прогресса
наук и
полезных
искусств, предоставлением,
на
ограниченное
время,
авторам и изобретателям
исключительного
права на соответствующие
сочинения и
открытия».
Цель
заключалась
в
стимулировании
изобретательства.
Для
изобретателей
поощрением являлся
запрет
другим лицам
пользоваться
изобретением,
причем такое
поощрение
должно было
соответствовать
общественной
пользе
изобретения.
Раскрытие
информации
по патенту
также
служило
толчком
техническому
прогрессу.
Со
временем,
упор
сдвинулся в
сторону рассмотрения
патентной
системы как
средства получения
финансирования
для
необходимой
научно-исследовательской
и
разработочной
деятельности
и защиты
инвестиций.
Поскольку патентная
система дает
стандартный
уровень
защиты во
всех
включенных в
такую защиту областях,
то не может
быть
непосредственной
связи между
ценностью
соответствующего
права на то или
иное
изобретение
и затратами
на научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность.
Существует,
возможно, связь
между
ценностью
монополии и
ее социальной
пользой, если
считать
рыночный
спрос надежным
указателем
последней. Но
для
развивающихся
стран это
далеко не
так.
Патентная
система не
может
стимулировать
полезных для
общества изобретений,
если те, кто
от этого
выиграют, не
в состоянии
за них
платить, а
кто-то другой
платить за
них не
готов.
Как мы
уже отмечали
в «Обзоре»,
многие
выражают
озабоченность
по поводу
развития
такой
системы, причем
это
относится
как к
развитым, так
и развивающимся
странам. Это,
в частности,
касается
применения
патентной
системы к технологиям
нового
поколения,
особенно в
области
биологических
наук и
информационной
технологии.
Развитие
биотехнологии
сопровождалось
более
широкораспространенным
патентованием
живых
организмов,
патентоспособность
здесь была
подтверждена
Верховным
Судом США в
деле
Дайамонд
против Чакрабарти
в 1980 году.[307]
Точно так
же, развитие
и растущее совершенство
информационно-коммуникационной
технологии
сопровождалось
в США
распространением
патентования
на компьютерное
программное
обеспечение.
Такое
распространение
на новые
технологии
сопровождалось
более широким
использованием
патентной
системы. В США,
и - в меньшей
степени - в
других
странах, число
выданных
патентов
быстро
возросло. С 1981
по 2001 годы
число
предоставленных
в США патентов
выросло с 71000 до 184000, то
есть на 159%. В
последнее
пятилетие рост
ускорился,
число
предоставленных
патентов
увеличилось
более, чем на 50%,
в предыдущем
пятилетии
эта цифра
была менее 14%.
Такое увеличение,
по-видимому,
отражает
рост интенсивности
патентования
(на каждый
доллар, затраченный
на
научно-исследовательскую
деятельность),
а не 50%-ное
увеличение
числа изобретений.
В 1990-е годы в США
затраты на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
возросли, в
реальном
выражении, почти
на 41%, а число
предоставленных
патентов
выросло
более, чем на 72%
в течение
десятилетия
до 2001 года.[308]
Патентная
система
рассчитана
на поощрение
технического
прогресса, и ее
эффективность
зависит от
соответствия
такого
стимулирования
технологическому
развитию.
Однако, в то
время, как
патентная система
имеет
единообразные
критерии
рассмотрения
патентных
заявок, картина
технического
прогресса в
разных областях
может
существенно
разниться.
Патентная
система
лучше всего
подходит для
модели
прогресса, в
которой
запатентованный
продукт,
разработанный
для продажи
потребителю,
является
определенным
«дискретным»
результатом
исследовательской
деятельности.
Пример этого
- безопасная
бритва или
шариковая
авторучка,
часть таких
характеристик
присуща и
новым
лекарствам.
В
отличие от
этого, во
многих
отраслях, в
частности,
наукоемких,
процесс
инноваций
может быть
итеративно-накопительным
на основе
ряда
предыдущих
независимых
изобретений,
с подпиткой
дальнейшего
процесса
независимой
научно-исследовательской
деятельности
другими
сторонами.[309]
Знания
эволюционируют
в результате
коллективной
работы,
зачастую на
основе
постепенного
вклада
других людей.
Сэр Исаак
Ньютон
несколько столетий
назад сделал
следующую
скромную
запись: «Мне
удалось
видеть
дальше
потому, что я
стоял на
плечах
гигантов»[310]. Более
того, большая
часть
научно-исследовательской
деятельности
состоит из
сравнительно
заурядного
развития
существующей
технологии. Например,
нахождение
генной
последовательности,
которое было
раньше
результатом кропотливого
труда,
сегодня
полностью автоматизировано
и,
практически,
больше не является
творческим
процессом.
Разработка
программ
также во
многом
зависит от
постепенного
наращивания
существующих
программ.
Например, движение
за
программное
обеспечение
с открытым
источником
зависит
именно от
этих характеристик
и работы сети
независимых
программистов,
постепенно
развивающих
программное
обеспечение
на основе
возврата
улучшенных программ
для общего
распространения.
На
практике,
зачастую
трудно
отличить дискретные,
постепенные
и накопительные
процессы
научно-исследовательской
деятельности,
потому что
последняя
осуществляется
многими путями,
и в ней,
зачастую,
присутствует
элемент
удачи. Но в
большинстве
случаев
«накопительная»
модель
сегодня,
по-видимому,
лучше описывает
научно-исследовательскую
деятельность,
чем
«дискретная»
модель.
Патентная система,
эволюционировавшая
с учетом
последней
концепции,
возможно, не
является
оптимальной
моделью для
концепции
первой. Таким
образом, как
отмечают
Мерджес и
Нельсон:
«Нельзя
забывать, что
потенциальный
изобретатель
также и
потенциальный
нарушитель.
Таким образом,
«укрепление»
права
собственности
не всегда
усиливает
стимул к
изобретательству;
так может
быть в случае
нескольких
пионеров, но
этим также
намного увеличивается
и шанс
увязнуть в
судебных
тяжбах
При
предоставлении
широкого
патента
его
рамки снижают
стимул для
других
изобретателей
«оставаться в
игре», по
сравнению со
случаем патентной
заявки,
«скроенной» в
соответствии
с фактическими
результатам
изобретателя.
В этом не
было бы
ничего
плохого, если
бы факты
указывали на
то, что
контроль
одной стороны
над
дальнейшим
развитием
сделает дальнейшую
разработку
более
эффективной.
Мы, однако,
считаем, что
факты
свидетельствуют
об обратном»[311].
Решающим
вопросом
является то,
в какой степени
патентная
система - в
том виде, в
котором она
эволюционировала
в развитых
странах, и
которую
заставляют
принять
развивающиеся
страны -
обеспечивает
поощрение
изобретательства.
Одной из
фундаментальных
дилемм здесь
является
большое число
патентов на
технологию,
полученную в
результате
одного
научно-исследовательского
процесса, но
представляющую
собой
входные
параметры
нескольких
дальнейших
процессов.
Одним из
примеров
этого
является
вопрос патентования
«инструментов
научно-исследовательской
деятельности»[312] .
Одновременно
с
расширением
патентования
в частном
секторе,
научно-исследовательские
учреждения
общественного
сектора
ускорили
передачу
разработанной
ими
технологии
путем
патентования.
В США этот
подход был
поощрен
введением
Акта Байх-Доул
1980 года. Такая
политика с
тех пор распространилась
на другие
развитые
страны, а также все
больше на
технически
развитые
развивающиеся
страны. В США
число патентов,
ежегодно
предоставляемых
университетам,
увеличилось
десятикратно
- с 350 в 1970-х годах
до свыше 3000 в 2000
году. За тот
же период
доля патентов,
предоставленных
в США университетским
сотрудникам,
возросла с 0.5%
до 2% от общего
числа
патентов.[313]
По мнению
некоторых
обозревателей,
такая
политика
стимулирования
потока изобретений
из
университетов
и поощрения их
коммерческого
использования,
принесла пользу
всему
обществу.
Другие
обозреватели
выражают
озабоченность
по поводу
возможного
ограничения
доступа иных
организаций
к
финансированию
научно-исследовательской
деятельности
и ее использованию;
возможного
искажения
приоритетов
научно-исследовательской
деятельности
в
общественном
секторе, а
также задают
вопрос о том,
является ли
рост
патентов
верным
индикатором
ускорения
передачи
технологии.
Мы рассмотрим,
что означает
для
развивающихся
стран такая
озабоченность
патентной
системой развитых
стран.
Во-первых,
чтобы
избежать
аналогичных
проблем, с
которыми
сталкиваются
развитые
страны,
развивающиеся
страны
должны
попытаться
разработать
свою патентную
систему с
учетом
конкретных
социально-экономических
обстоятельств.
Как
патентные
заведения,
так и законодатели
развивающихся
стран должны
хорошо
сознавать
коммерческий
эффект и
социальное
воздействие
своего подхода
к разработке
и внедрению
патентной политики.
Для
поощрения
научно-исследовательской
деятельности
сравнительно
более
технически
развитые
страны могут
пойти по пути
внедрения
системы с
широкой
патентной
защитой. С
другой
стороны, им также
хотелось бы
избежать тех
аспектов
системы,
которые
могут затормозить
процесс
исследований, в
частности
последующих
инноваций, или
же могущих
привести всего
того, что
идет в ущерб
таким задачам
либо может
привести к
ненужнымой
затратаме
средств на
судебные
искиы и
патентный
арбитраж, а
также
избежать «рентоискательства»[314]
правообладателей
при
сомнительной
социальной
пользе. Такие
системы
должны обладать
адекватной
защитой,
обеспечивающей
конкуренцию
и ведущую
к минимальным езатратам
потребителя.ьские
затраты.
Поскольку
в
развивающихся
странах
большая
часть
научно-технического потенциала
сконцентрирована
в
государственном
секторе,
необходимо
тщательно
продумывать
последствия
следования
за развитыми
странами, где
поощряют
поощряется
подачау
патентных
заявок
научно-исследовательскими
учреждениями
и
университетами.
Ввиду того,
что большая
часть
технологии стран
со слабой
научно-технической
инфраструктурой
импортируется,
у них меньше
причин для
введения у
себя
расширенной
патентной
защиты.
Во-вторых,
очень
сложным
является
вопрос о том,
как увязать
интересы
развивающихся
стран с
существующим
ныне
давлением в
направлении
гармонизации
международной
патентной
системы в
соответствии
со стандартами
развитых
стран. Этот
вопрос
возник как в
связи с увеличением
числа
патентных
заявок, что возлагает
большую
нагрузку на
многие патентные
бюро и
ведомства,
так и ввиду
осознания
того факта,
что в системе
имеется
значительное
дублирование,
особенно в
связи с необходимостью
подачи
многих
заявок на
одно и то же
изобретение
в разных
юрисдикциях. Этого
можно
избежать
гармонизацией
стандартов,
критериев
поиска и
процедур рассмотрения
заявок. Для
некоторых
окончательной
целью
является
международный
патент,
действительный
во всем мире
и основанный
на едином
процессе
подачи
заявки. Но
если, как мы
утверждаем,
развивающиеся
страны
необходимо
подталкивать
к разработке
патентных
систем, подходящих
к их
конкретным
обстоятельствам
и целям,
меняющихся в
зависимости
от этапа развития,
то какой же
им выбрать
путь
действий?
В связи
с
вышеуказанным,
для
развивающихся
стран
решающими
являются
следующие
вопросы:
·
Как
развивающимся
странам
сформулировать
патентное
законодательство
и практику?
Какие им, в
целом,
принять меры,
чтобы свести
до минимума
отрицательные
последствия
режимов
патентования?
·
Следует
ли ли
развивающимся
странам поощрять
научно-исследовательские
учреждения
общественного
сектора к
патентованию
своих
изобретений?
·
До
какой
степени
патентная
система
затрудняет научно-исследовательскую
деятельность,
имеющую
отношение к
развивающимся
странам?
Проблематично
ли
патентование
инструментов
научно-исследовательской
деятельности для
развивающихся
стран?
·
Каков
оптимальный
подход
развивающихся
стран в
отношении
гармонизации
патентования?
РАЗРАБОТКА
ПАТЕНТНЫХ
СИСТЕМ В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ
Введение
Мы
считаем, что,
при
рассмотрении
вопросов разработки
патентных
систем,
развивающимся
странам
необходимо
придерживаться
конкурентной
стратегии,
которая бы, по
словам
одного
обозревателя,
отдавала
предпочтение
«второпроходцам»,
а не
зарубежным
патентообладателям.[315]
Это особо
важно в таких
областях, как
фармацевтика
и сельское
хозяйство,
где расходызатраты
на патентную
защиту будут,
по всей
вероятности,
самыми
высокими.
Такую
конкурентную
стратегию
лучше всего
реализовать,
стремясь
ограничивать
рамки предоставляемой
патентной
защиты.
В
пределах
ограничений
международных
и двусторонних
обязательств
это
достигается:
·
Ограничением
патентуемых
тем и
направлений
·
Введением
стандартов,
по которым
выдаются
лишь
патенты,
удовлетворяющие
строгим
требованиям
патентоспособности,
а также
обеспечением
соизмеримости
патентного
охвата вкладу
изобретателя
и
произведенному
раскрытию
·
Поощрением
конкуренции
путем
ограничения
способности
патентообладателя
запретить
другим
изобретателям
использовать
его идеи в
качестве элемента
новых
изобретений
или для дизайна
«вокруг»
запатентованных
изобретений
·
Предоставлением
разного рода
предохранительных
механизмов,
обеспечивающих
такое
положение, при
котором
патентные
права не
используются
несоответствующим
образом
·
Рассмотрением
возможности
других
форм защиты
для
поощрения
местного
новаторства.
Ниже мы
рассмотрим,
как на
практике
достичь этих
целей.
Как мы
уже видели,
раньше
страны
приспосабливали
свои
патентные
режимы так,
чтобы поощрить,
затруднить
или чаще
всего
запретить
патентование
в
определенных
технологических
областях.
Подписание
ТРИПС, с его требованием
более
последовательного
подхода к
разным
технологическим
областям,[316]
снизило число
доступных
законодателям
вариантов.
Тем не менее,
составители
патентного
законодательства
все еще имеют
в своем распоряжении
целый набор
средств, даже
если некоторые
из них и
притуплены
договором
ТРИПС. Было
выпущено
множество
книг и
текстов с перечислением
ряда
доступных по
ТРИПС
вариантов.[317] Ниже
мы описываем
некоторые из
этих вариантов
и
рассматриваем,
насколько
они подходят
к типам
конкурентных
патентных
режимов,
рекомендуемых
нами
большинству
развивающихся
стран. Мы
также
рассмотрим,
как здесь
внедрить
некоторые
рекомендации
предыдущих разделов,
которые
относились к
патентной политике
здравоохранения
и сельского
хозяйства.
Рамки
патентоспособности
Патентуемые
изобретения
ТРИПС
требует
«возможности
патентования
любых
изобретений,
относящихся
к продуктам
или
процессам, во
всех технологических
областях, при
условии новизны,
наличия
изобретательного
шага (неочевидности)
и
индустриальной
применимости
(полезности)»[318]. В нем не
приводится,
однако,
определения
термина
«изобретение»
и нет
описания того,
как
определить
три критерия
патентоспособности.
Более того,
необходимо отметить,
что нередки
случаи, когда
разные европейские
арбитражные
суды, даже
применяя
идентичное
законодательство,
приходят к
разным
решениям
относительно
очевидности
или неочевидности
той или иной
патентной
заявки. У
развивающихся
стран,
следовательно,
имеется достаточная
свобода
действий в
задании степени
строгости
применения
тех или иных
общих
стандартов
ТРИПС и
распределения,
при этом,
бремени
доказательства.
Развитые
и развивающиеся
страны
никогда не
распространяли
патентной
защиты на
определенные
области и
понятия, не
называя их,
для этой цели,
изобретениями.
Это,
например,
согласно Статье
52 Eвропейской
патентной
конвенции
(ЕПК), включает:
a)
открытия,
научные
теории и математические
методы;
b)
эстетические
произведения;
c) схемы,
правила и
методы
умственных
действий, игр
и деловой
активности, а
также программы
для
компьютеров;
d)
презентацию
информации.
В статье
52(4) ЕПК
говорится,
что лечение
организма
человека и
животных
хирургическими,
терапевтическими
и
диагностическими
методами,
практикуемыми
на организме
человека и
животных, не
считается
изобретением
с
индустриальным
применением.
В статья 53(b) ЕПК
говорится,
что патенты
не
предоставляются
на культуры
растений и животных
или
биологические,
по своей
сути, процессы
производства
растений и животных.
Несмотря
на то, что
дальнейшая
практика и юриспруденция
ЕПВ до
некоторой
степени «разбавила»
объемы этих
статей,[319]
для
большинства
развивающихся
стран,
по-видимому,
вполне
разумным
шагом будет
принять этот
перечень
исключений в
качестве
минимального.
Более того, в
Разделе 3 мы
пошли дальше,
заключив, что
развивающимся
странам, в
целом, не
следует
распространять
патентную
защиту на все
растения и
животных.[320]
Ряд
развивающихся
стран также
стремились
дальше ограничить
то, что
составляет
патентуемое
изобретение.
Например,
Общий режим
индустриальной
собственности
стран
Андского пакта
обеспечивает
непризнание
изобретением
того, что
представляет
собой:
«Любой
полный или
частичный
живой
организм,
встречающийся
в природе,
естественные
биологические
процессы и
биологические
материалы,
существующие
в природе,
либо те,
которые
можно
выделить, включая
геном или
зародышевую
плазму
живого
организма».[321]
Аналогичные
положения
существуют и
в
законодательствах
Бразилии и Аргентины.
Ниже мы
рассмотрим
вопрос о том,
какие
правила
патентоспособности
применять к
генетическим
материалам.
Исключение
изобретений
по моральным
или этическим
соображениям
Дебаты
вокруг
патентной
защиты
определенных
изобретений,
особенно в
области
биологических
материалов,
явно выходят
за пределы
чистой
экономики. Для
значительного
числа людей в
развитых и
развивающихся
странах сама
идея
патентования
живых организмов
- аморальна.
Зачастую это
связано с той
точкой
зрения, что
живые
организмы
нельзя
патентовать,
потому что,
по
определению,
их можно лишь
открыть, а не
изобрести. В
недавно проведенных
в
европейских
странах
обсуждениях
вопросов
защиты
биотехнологических
изобретений
активное
участие
принимали группы
противников
патентования
«жизни».[322] В
окончательной
редакции
Директивы EC[323] имеются
положения,
исключающие
определенные
группы
изобретений[324] из
области
патентной
защиты по
моральным соображениям,
но при этом
все же
разрешается
патентовать
растения,
животных и генетические
материалы. Aналогичные
дебаты
ведутся и в
развивающихся
странах, где
экономические
интересы, предписывающие
патентование
живых организмов,
вероятно
слабее, и где
разные
культурные и
религиозные
ценности
зачастую могут
приводить к
иному
результату. В
этих случаях
может быть
принято
решение
отказать в
патентовании
изобретения
по этическим
соображениям
в случае
генетических
материалов,
таких как
человеческие
гены. Однако,
моральные
исключения
такого типа
на основе
Статьи 27.2
ТРИПС
последовательны
лишь при
желании
предотвратить
«коммерческое
использование»
изобретений,
на которые не
выдают
патенты.
Поэтому
неясно, можно
ли исключить
патентование
изобретений,
одновременно
разрешая
продажу или
другое
коммерческое
использование.
Некоторые
этические вопросы
генной
технологии
могут
распространяться
лишь на
монопольные
требования
на такую
технологию, а
не на ее
коммерческое
использование.
В таких
случаях
лучше всего
добиться
исключений
из рамок
патентной
защиты
строгим
соблюдением
критериев патентоспособности,
что включает,
как
обсуждалось
выше, четкое
определение
того, что
составляет патентуемое
изобретение,
в отличие от
непатентуемого
открытия, и
применение
концепций
новизны,
изобретательного
шага и индустриального
применения.
Мы признаем,
что на практике
нелегко
бывает точно
определить
разницу
между
открытием и
изобретением
это задача
проработки
для
законодателей.
Вопросы
морали
возникают
также и в
отношении
патентов в
областях,
отличных от
биотехнологии.
Например,
Великобритания
и Кения
недавно решили
по моральным
соображениям
отвергнуть
патентование
мин.
Стандарты
патентоспособности
Новизна,
изобретательный
шаг и
требование
утилитарности
В
Разделе 4 мы
рекомендовали
обеспечение
абсолютных
стандартов новизны,
при которых предварительные
работы, по
сравнению с
которыми
сравнивается
новизна,
включали бы
раскрытие
через использование
в любом месте
мира. В
Разделе 2 мы
также
предупреждали,
что
развивающимся
странам нет
смысла
просто
повторять
сравнительно
недавно
возникшее, и
противоречащее
интуиции,
европейское
правовое
понятие о
том, что продукт
можно
считать
новым, если
для него найдено
новое
использование.
ТРИПС не обязывает к
такому
подходу,
причем возможны
разные точки
зрения на то,
желательно
ли
распространять
такую защиту;
развивающимся
странам
стоит
внимательно
отнестись к
этому
вопросу.
В
определенных
юрисдикциях
раскрытие изобретателем
изобретения
в течение,
обычно, 12
месяцев до
регистрации
не отменяет
патентной
новизны.
Такой льготный
период,
который
может
относиться к
любому
раскрытию
либо только к
раскрытию на
международно
признанных
показах,
предназначен
для того,
чтобы дать
заявителю
возможность
найти
поддержку и
оценить
рынок для
своего изобретения.
Однако, в
отсутствие
международного
стандарта на
льготные
периоды,
изобретатель
рискует
потерять
патентные
права в
юрисдикциях,
не
признающих
льготных
периодов из-за
раскрытия в
юрисдикциях,
которые его
признают.
Развивающиеся
страны, где
перспективных
патентообладателей
немного, могут,
следовательно,
не проявлять
большой заинтересованности
в
предоставлении
льготного
периода.
В
настоящее
время
изобретение,
обычно, считают
изобретательным,
если оно не
очевидно для
лица,
практикующегося
в этой
области.[325]
Некоторые
утверждают,
что используемые
ныне
стандарты,
например,
патентного ведомства
США или ЕПВ,
слишком
низки, в
результе чего
появляется
много
тривиальных
изобретений,
которые не
могут внести
вклада в решение
общей задачи
патентования,
состоящей в
прогрессе
наук для
общественной
пользы.
Нам
неизвестно,
применяют ли
сегодня где-то
последовательно
более
высокие
стандарты, однако
известны
примеры
более
высоких стандартов
в прошлом.
Например, в
первой половине
20-го века в США
применяли
стандарты
«вспышки
творческого
гения», в
соответствии
с которыми,
вероятно,
большинство
сегодняшних
патентов
были бы
недействительными.
Для
развивающихся
стран
преобладающие
сегодня
низкие
стандарты
изобретательного
шага связаны
с двумя
моментами,
вызывающими
беспокойство.
Первый из
них, относящийся
также и к
развитым
странам,
касается возможного
ущерба для
научно-исследовательской
деятельности,
важной для
развивающихся
стран. Второй
же момент
связан с тем,
что от
развивающихся
стран
ожидают
применения у
себя, в собственных
режимах,
аналогичных
стандартов. Мы
призываем
развивающиеся
страны
внимательно
продумать
все
последствия,
прежде чем
приступать к
осуществлению
указанных
шагов. Необходимо
вначале
исследовать
вопрос о желательности
более
высоких
стандартов. Одно
из
выдвинутых
предложений
здесь касалось
требования к
патентным
заявителям продемонстрировать,
что их
изобретения
отражают
более высокие
стандарты
изобретательности,
чем обычно
принятые в
той или иной
отрасли.[326]
Цель любого
стандарта
должна заключаться
в
обеспечении,
в целом,
такого положения,
при котором
нельзя
запатентовать
обычное
поэтапное увеличение
объема
знаний при
минимальном
творческом
вкладе.
Развивающимся
странам
необходимо
также рассмотреть
вопрос
воздействия
более высоких
стандартов
изобретательности
на способность
местных
предприятий
защищать
свои
инновации. Мы
вернемся к
этому вопросу,
рассматривая
важность
второй категории
защиты,
используемой
в
утилитарных
моделях.
Требование
к индустриальному
использованию
изобретения
(утилитарности
в США)
применимо,
вероятно, не
только к патентоспособности,
однако это
единственное
требование, которое
стало более
строгим в
последнее время.
Оно, по
существу,
связано с
трудностью
определения
возможности
реального
промышленного
применения
определенных
биотехнологических
изобретений,
относящихся,
например, к
генам и
белкам. Из
описаний в
заявках нередко
не видно,
существуют
ли какие-то
приложения.
Патентное
ведомство
США недавно выпустило
инструкции о
том, как
оценивать утилитарность
в случае
последовательностей
ДНК.[327] В
этих случаях
утилитарность
можно
установить
лишь если
патентная
заявка приводит
конкретное,
существенное
и надежное
описание
утилитарности. Такое
требование
теперь также
до некоторой
степени применяется
и ЕПВ.[328]
Есть
надежда на
то, что такой
новый стандарт
предотвратит
выдачу
патентов на изобретения
с
сомнительной
возможностью
приложений,
однако,
вполне
возможно, что
он не заходит
достаточно
далеко, и что,
следовательно,
нужно будет
тщательно
следить за
воздействием
новых
инструкций.
Развивающиеся
страны,
предоставляющие
патентную
защиту
биотехнологическим
изобретениям,
должны - с
учетом
соответствующих
инструкций
патентного
ведомства
США -
оценивать,
существуют
ли для них
эффективные
применения.
Требование
раскрытия
При
предоставлении
патента, с
обществом как
бы заключают
контракт о
том, что
заявителю
предоставляется
ограниченный
монопольный
период в
обмен на
полное раскрытие
им своего
изобретения.
Степень раскрытия,
соответствующая
выполнению
заявителем
своей части
контракта, в
разных странах
разная. В
некоторых
странах,
включая США,
от заявителя
требуют не
только полностью
раскрыть
изобретение
так, чтобы
другие смогли
им
воспользоваться
на практике,
но и раскрыть,
при этом, наилучший
способ того,
как этого
добиться.
Наказанием
за
несоблюдение
указанного
требования,
обычно,
является
потеря
патента.
Развивающиеся
страны должны
внедрить у
себя
вышеуказанные
положения о
наилучшем способе,
чтобы
обеспечить
такое
положение,
при котором
патентный
заявитель не
скрывает
информации,
полезной для
третьих сторон.
Еще
одним
относящимся
к раскрытию
моментом
является
требование
раскрывать
источники
любых
биологических
материалов,
используемых
в
изобретении.
Мы обсудили
этот вопрос в
Разделе 4.
Другим
важным
вопросом
является
соотношение
степени
раскрытия и
рамок охвата
ожидаемой
защиты.
Патентные
режимы,
обычно, требуют,
чтобы
изобретение
было
раскрыто в
патентных
заявках в
степени,
достаточной
для ясного и
полного его применения
квалифицированным,
в соответствующей
области,
лицом. Заявка
должна также
сопровождаться
описанием
изобретения. В
Великобритании,
например,
считают, что
правильная
формула
изобретения
не должна
быть настолько
широкой,
чтобы
выходить за
рамки изобретения,
но не должна
также быть и
чересчур
узкой, не
лишая
патентного
заявителя
справедливого
вознаграждения
за раскрытие своего
изобретения.[329]
Британские
арбитражные
суды также
недавно
заявили, что
раскрытие
обязано
удовлетворять
возможности
осуществления
всех
аспектов
изобретения,
и что не всегда
достаточно
раскрыть
лишь один
способ
практической
реализации
изобретения.[330]
Что,
однако,
понимают под
широким
охватом? Возьмем,
например,
изобретателя
нового
средства против
головной
боли. Он
раскрывает
потенциальное
использование
средства в
патентной
заявке, но
патентная
формула
выходит за
рамки
использования
средства и
всех потенциальных
приложений.
Допустим, что
в период действия
патента
кто-то
установил,
что данное средство
полезно и при
лечении
сердечных заболеваний.
Правильно ли
тогда будет,
если патентообладатель
сможет
предотвратить
неутвержденное
использование
средства для
непредвиденных
им целей? Оправдана
ли такая широкоохватная
формула на
основе
ограниченного
раскрытия?
Патентное
законодательство
развитых стран,
обычно,
оправдывает
такую
широкоохватность
тем, что
изобретатель
сделал доступными
для других
две вещи -
само
средство и первое
его
использование.
Хотя вопрос
широкоохватности
носит общий
характер,
чаще всего он
возникает в
отношении
патентования
генов. В
соответствии
с вышеуказанным,
некоторые
придерживаются
той точки
зрения, что
изолированный
ген (даже
когда определены
одна или
несколько
его функций)
не должен
подлежать
патентованию,
потому что он
уже
существует в
природе, и
его можно
лишь открыть,
а не
изобрести. Но если
какая-то
страна
решает
позволить патентование
генов, то
здесь важно
обозначить
возможные
рамки защиты.
В настоящее
время, если
исследователь
выделяет ген,
и ему выдают
патент,
например, на
использование
гена для
диагностики той
или иной
болезни, то, в
зависимости
от точной
формулировки
патентной
формулы и
подхода
местного
законодательства
к
истолкованию
патента, он
может
утверждать,
что владеет
правами на
любое
использование
гена, включая
и на еще не
открытое
использование.
Учитывая то,
что
выделение и
идентификация
гена сегодня
- после
установления
геномной
последовательности
человека и
других
геномов -
стало
заурядной
процедурой,
исследователь
может
добиться
значительно
большего
уровня
защиты, чем
его реальный
вклад. Более
того,
поскольку
другим будет
сложно изобретать
что-то «в
обход» гена,
то указанный
исследователь
может
заполучить
мощную монополию.
В
недавнем
отчете о
патентах ДНК,
в котором
этот вопрос
был
рассмотрен в
деталях,
говорилось о
«необходимости
подумать над
концепцией
ограничения
рамок
патентов
упомянутым в
патенте
использованием,
с утверждением
права на
естественно
существующие
последовательности
ДНК, и там, где
основанием для
изобретения
служит лишь
использование
последовательностей
ДНК, а не их
производных,
или при
выяснении
самой
последовательности
ДНК».[331]
Тем самым,
исследователю
предоставляют
права лишь на
использование,
приведенное
в описании, а
не на любое
другое использование.
Этот
вопрос
касается как
развитых, так
и развивающихся
стран. Мы,
следовательно,
предлагаем,
чтобы
развивающиеся
страны сами провели
анализ того,
какие
обеспечить в
своих
юрисдикциях
рамки
патентных
формул, которые
бы
соответствовали
раскрытию.
Развивающиеся
страны могут
также попросить
рассмотреть
этот вопрос в
ВОИС, возможно,
в рамках
дебатов о
патентной
гармонизации.
Если
развивающиеся
страны
позволяют
патентовать
у себя гены,
то должны
быть соответствующие
инструкции,
обеспечивающие
ограничение
патентных
формул
использованием,
эффективно
раскрытым в
патентном
описании; это
нужно, чтобы
поощрить
дальнейшую
научно-исследовательскую
деятельность
и
коммерческое
применение
новых генных
приложений.
Однако,
как уже было
отмечено,
вопросы широкоохватности
выходят за
рамки
генных патентов
и должны
включать в
себя патенты
всех
технологических
областей.
ТРИПС запрещает
дискриминацию
в отношении
технологических
областей, и
кроме того, с
более общей
точки зрения,
желательно
также
обеспечить
такое положение,
при котором
широкоохватность
патентов в
любой
области не
представляет
собой
ненужной
преграды на
пути
научно-исследовательской
деятельности
и
конкуренции.
Применение
стандартов
До
сих пор мы
предлагали,
чтобы
развивающиеся
страны взяли
на вооружение
более
высокие
стандарты
патентоспособности,
по сравнению
со
стандартами,
используемыми
в настоящее
время во
многих развитых
странах.
Недостаточно,
однако, просто
включить
такие
стандарты в
законодательство,
нужно их
также
применять. В
Разделе 7 мы
занимаемся
вопросом
практических
возможностей
осуществления,
говоря о
нехватке квалифицированного
персонала,
что может, в
развивающихся
странах,
затруднить
внедрение
эффективной
патентной
политики. Мы
также
рассмотрим
меры, по типу
рассмотрения
патентов
подрядными
организациями,
работающими
по контрактам,
которые
можно
использовать
для решения
некоторых из
этих проблем.
Будет обсуждена
возможность
повторной
регистрации
патентов,
предоставленных
в других местах,
хотя при
таком
решении
необходимо
обеспечить
достаточно
высокие
стандарты
при
рассмотрении
патентов.
Какую
бы систему
развивающиеся
страны ни внедряли,
им стоит
рассмотреть возможность
предусмотреть
недорогие
процедуры
оспаривания
патентов и
порядок
повторного
рассмотрения.[332] В
Разделе 4 мы
подчеркивали
значение
таких
процедур при
отмене недействительных
патентов,
относящихся
к области
общеизвестных
традиционных
знаний.
Процедуры
возражений и
порядок
повторного
рассмотрения,
внедряемые
развивающимися
странами,
могут
представлять
собой гибрид
систем, существующих
в настоящее
время в
некоторых
развивающихся
странах, США
и Европе.
Желательной,
возможно,
покажется,
например,
система,
позволяющая
выдвигать
возражения
до
предоставления
патента, либо
выдвигать их
на любом
этапе
патентования,
с помощью
административных
процедур в
отношении
любого вопроса
патентоспособности.
При
принятии на
рассмотрение
патентных заявок
развивающиеся
страны
должны серьезно
рассмотреть
вопрос о
требовании к
заявителю
полностью
раскрыть
соответствующую
информацию,
касающуюся
заявок на это
изобретение
в других
странах. Развивающиеся
страны
должны также
рассмотреть
возможность
дополнить
заключения патентных
экспертов
мнением
специалистов
из других
областей. В
Бразилии заявки
на
фармацевтические
изделия
передают на
экспертизу в
министерство
здравоохранения,
которое, возможно,
более
компетентно
при
обсуждении аспектов
изобретательности.
Исключения
из правил,
касающихся
патентных
прав
В
Разделе 2 мы
рекомендовали
развивающимся
странам
ввести в свои
законодательства
о патентных
правах так
называемое
«исключение
Болар», способствующее
ускорению
конкуренции
со стороны
изготовителей
препаратов-генериков
в области
фармацевтических
изделий. Мы также
пришли к
выводу, что
для
развивающихся
стран более
благоприятным
будет международный
исчерпывающий
режим (т.е.
режим,
позволяющий
параллельный
импорт
патентованных
продуктов).
Это, однако,
не
единственные
исключения в
случае
развивающихся
стран.
Большинство
европейских
стран,
например, не
считают нарушением
патентов
действия в
частных и
некоммерческих
целях, или
экспериментирование
в области
патента (в
том числе и с
коммерческими
целями). Цель
таких
исключений,
соответствующих
также и целям
развивающихся
стран,
поощрить
дальнейшие
инновации,
давая
возможность
другим лицам
развивать запатентованное
изобретение,
либо
«конструировать
вокруг него».
Еще
одно
исключение,
существующее
в ряде развивающихся
стран, -
свободное
пользование
запатентованными
изобретениями
для целей
образования.
Оправдание
для такого
исключения
можно найти в
области защиты
авторских
прав, где
давно
существует понятие
«справедливого
использования»
защищенных
работ в целях
образования.
С растущим
распространением
патентов на
области, где
прежде
преобладала
защита
авторских
прав,
например, на
компьютерные
программы,
важность
такого
исключения
для
образовательных
целей может
возрасти.
Обеспечение
гарантий
патентной
политики
До сих
пор мы
рассматривали
требования к
получению
патентов и
возможные
ограничения
прав
патентообладателей.
Мы теперь рассмотрим
средства
обеспечения
использования
таких прав
надлежащим
образом.
Многие из
указанных
вопросов
весьма подробно
рассматривались
в Разделе 2,
здесь мы
добавим
некоторые
дополнительные
соображения.
Принудительное
лицензирование
и правительственное
использование
В
случаях,
когда
считают, что
патентообладатель
не действует
так, как
предписано,
правительство
вправе
вмешаться и
исправить
положение.
Такое
вмешательство
может быть
осуществлено
в рамках
общего
конкурентного
режима либо
самой
патентной
системы. Как
было отмечено
в Разделе 2,
возможность
использования
правительством
или, с его
разрешения,
третьими
сторонами
запатентованного
изобретения
без получения
на то
согласия
патентообладателя
давно уже
существует в
патентном
законодательстве
и признана в
ТРИПС. В
ТРИПС перечислен
ряд условий,
которым
должны
удовлетворять
случаи
«неутвержденного»
использования,
но в нем не
говорится, на
каких
основаниях
можно
разрешать
такое
использование.
Развивающимся
странам,
следовательно,
нужно выработать
собственные
основания,
утверждающие
принудительное
лицензирование
и другие
исключения
из прав
патентообладателя
(такие, как
пользование
короной или
правительством
развитых
стран). При
рассмотрении
вопроса о
введении
законодательства
или поправок
к нему стоит
обратиться к
опыту
патентных
законодательств
других стран.
К примеру,
США использовали
принудительное
лицензирование
более чем в 100
антитрестовых
случаях.[333] В
Великобритании
принудительные
лицензии
могут
предоставляться
на следующих
основаниях:
·
Если
при разумных
условиях не
удовлетворен
спрос на
запатентованный
в
Великобритании
продукт.
·
Если
предотвращено
или
затруднено
использование
в
Великобритании
других
патентованных
и
экономически
важных
изобретений,
связанных с
существенным
техническим прогрессом.
·
Если
ставятся
несправедливые
преграды на
пути
налаживания
или развития
какого-то
вида
коммерческой
или
промышленной
деятельности
в
Великобритании.
Развивающиеся
страны,
разумеется,
не обязаны
слепо
следовать по
стопам
таких
стран, как
Великобритания.
Среди других
соображений,
уже взятых на
вооружение
развивающимися
странами «общественный
интерес» и
невозможность
для
третьей
стороны
получить
лицензию на
разумных
условиях.[334]
Бразилия и
другие
страны[335] уже
включили или
собираются
включить в свои
законодательства
положения о
принудительном
лицензировании
в случаях,
когда спрос
на запатентованное
изобретение
удовлетворяется,
в основном,
через импорт.
Как мы уже отмечали
в Разделе 1,
такие меры
использовались
развитыми
странами в
19-ом и 20-ом
веках для
снижения
возможного
ущерба для
своей промышленности
при выдаче
патентов
иностранцам.
Возникает,
однако,
вопрос о
соответствии
таких мер
положениям
ТРИПС,
требующим
недискриминационного
подхода к
патентным
правам,
независимо
от того,
импортируют
ли продукт
или
производят
его на месте.[336] Развитые
страны,
включая
Великобританию,
в целом, изъяли
это
положение из
своих
законодательств,
в
соответствии
с
собственным
истолкованием
соглашения
ТРИПС.
В
идеале, сама
по себе
возможность
принудительного
лицензирования
должна быть
достаточной
для
изменения поведения
патентообладателя.
В Разделе 2 мы отмечали,
что здесь
важна
реальная
угроза, когда
есть
потенциальные
лицензиаты,
которые
могут
поставлять
на рынок
запатентованные
продукты по
более низким,
чем у патентообладателя
ценам.
Ввиду
процедурных
сложностей
системы,
широкое
использование
принудительного
лицензирования
развивающимися
странами
маловероятно.
Согласно
рекомендациям
Раздела 2, мы,
тем не менее,
считаем эффективную
реальную
систему
принудительного
лицензирования
существенной
частью
патентной политики.
Это особо
важно для
стран, в
которых нет
последовательной
эффективной
общей конкурентной
политики.
Споры о
владении
патентами
Во время
посещения
Кении мы
узнали о
спорах,
связанных с
патентом на
вакцину
против ВИЧ,
зарегистрированным
Медицинским
научно-исследовательским
советом
(МНИС) Великобритании.
В частности,
высказывалась
озабоченность
в отношении
того, что
научно-исследовательский
вклад
университета
города
Найроби не
нашел
адекватного
отражения.
Отчасти в
результате
общественного
давления, связанного
с этим делом,
было
достигнуто соглашение,
в
соответствии
с которым
МНИС, университет
Найроби и
Международная
инициатива в
области
вакцины
против СПИДа
(МИОВПС)
станут
совместными
патентообладателями
этого и всех
будущих
патентов, связанных
с указанной
разработкой.[337]
В
отсутствие
такого
соглашения,
исследователям
из Кении
пришлось бы
рассматривать
возможность
судебных
действий для
справедливого
признания
своего вклада
в патент и
прав на
связанные с
ним возможные
выгоды.
В
большинстве,
если не во
всех,
патентных
законодательствах
предполагается,
что
предоставление
патента касается
лица,
подавшего
патентную
заявку.
Например, в
британском
патентном
законодательстве
заявитель, не
претендующий
на изобретение,
должен
заявить,
какое он имеет
отношение к
заявке на
патент.
Патентные
бюро и ведомства,
как правило,
не пытаются
ставить под
вопрос права
заявителя на
изобретение,
хотя третья
сторона
может подать
иск и начать
тяжбу до и
после
предоставления
патента. Чтобы
добиться
успеха, такой
третьей
стороне
необходимо
продемонстрировать,
что она является
изобретателем
или
соизобретателем
запатентованного
изобретения
либо у нее
есть какие-то
права на
патент ввиду
существования
того или
иного
соглашения
или действия
какого-то
закона. Бремя
доказательства
почти всегда
возлагается
на истца.
Выдвигались
предложения
о том, что
стоит, возможно,
ввести
требование,
согласно
которому
заявитель
должен
продемонстрировать,
как он пришел
к
изобретению
в случаях, когда
этот путь не
совсем
очевиден
(например, в
некоторых случаях
биологических
материалов).[338] Такое
требование,
которое,
по-видимому,
дозволяется
в рамках
ТРИПС,
отличается
от существующего
в
настоящее
время требования
описать
применение
изобретения
на практике[339].
Хотя более
активная
роль в
расследовании
прав на патент
может
явиться
дополнительной
нагрузкой на
перегруженные
патентные
бюро и ведомства,
мы тем не
менее
считаем, что
такое
предложение
стоит
детально
проанализировать.
Поощрение
местного
новаторства
Многие
из
предложений
этого
раздела отражают
тот факт, что
граждане
низкодоходных
развивающихся
стран подают
очень мало
патентных заявок. Это не
следует
рассматривать
в качестве
доказательства
того, что в
таких
странах
почти нет
новаторской
деятельности;
проблема,
скорее,
заключается
в том, что в
настоящее
время
патентная
система не
обеспечивает
подходящих
средств
защиты их
усилий. Одной
из возможных
причин этого
является то,
что типы
соответствующих
изобретений
не обладают
необходимым
уровнем
изобретательности.
Еще одна
важная
причина
сложность и
большие
затраты на
приобретение
прав,
особенно на
иностранных
рынках, и,
прежде всего,
на правоприменение
через суды.
Многие
страны, как
развитые, так
и развивающиеся,
признают
необходимость
защиты так называемого
«подпатентного»
типа изобретений,
в силу чего
они ввели
второй
уровень
патентообразной
защиты. Такие
системы,
обычно,
называют утилитарными
моделями либо
системами мелкого
патентования.[340] По
сравнению с
обычным
патентованием
такие
системы, как
правило,
требуют более
низкого
уровня
изобретательного
шага,
обеспечивают
более
краткий
период
защиты и
поскольку
они не
связаны с существенной
предварительной
экспертизой
обходятся
дешевле.[341]
Эти
свойства
предназначены
для придания привлекательности
в глазах
мелких и средних
предприятий
(МСП), у
которых,
обычно, нет
ни желания ни
возможности
воспользоваться
обычной
патентной
системой. Тип
новаторской
дятельности
в таких
организациях
может быть,
скорее,
сосредоточен
на
сравнительно
небольших
рационализаторских
предложениях
по улучшению
существующих
изделий, а не
на
разработке
совершенно
новых продуктов.
Такие
улучшения,
хоть они и не
удовлетворяют
необходимому
уровню
изобретательности
обычной
патентной
защиты, тем
не менее
вносят вклад
в дело
технического
прогресса и
должны
поощряться. В
большинстве
случаев они,
вероятно,
улучшают
продукцию,
такую как
механические
изделия,
которые чаще
всего
производятся
на местных
предприятиях,
и
определенно
не должны
быть
использованы
в качестве
замены
обычных
патентов (где
мы
рекомендуем
повысить
стандарты).
Успешна
ли
утилитарная
модель в
поощрении
инноваций в
развивающихся
странах,
установить
нелегко.[342] Во
время нашего
посещения
Кении нам
сообщили, что
уровень
интереса
среди кенийских
компаний к
недавно
введенной
утилитарно-модельной
системе был,
к сожалению очень
низким, то же
относится и к
другим
развивающимся
странам.
Собранные
ВОИС данные
показывают,
что в
Аргентине в 2000
году было
зарегистрировано
лишь 38
утилитарных
моделей, а во
Вьетнаме
только 32.
Кроме
используемых
в настоящее
время систем,
предлагались
разные
другие
меры
поощрения
«подпатентного»
типа
изобретений
и
постепенных
инноваций. В
одной из них
предлагается
дать право на
получение
небольших
лицензионных
платежей при
использовании
изобретений другими
лицами, без,
однако,
запрета на
использование.
При таком
подходе
стремятся
вознаградить
инновации,
одновременно
снижая
отрицательное
воздействие
на
последующие
инновации.
Необходимо,
однако,
испытать и
оценить практичность
административных
и правоприменительных
требований
такой
системы в развивающихся
странах.[343]
Вместо
«разбавления»
стандартов
патентоспособности
для
включения
инноваций
постепенного
вида,
преобладающих
во многих
развивающихся
странах,
законодатели
и
политические
деятели этих
стран должны рассмотреть
возможность
создания
утилитарных
моделей
защиты для
стимулирования
и вознаграждения
таких
инноваций. Здесь,
по-видимому,
желательно
провести
дальнейшие исследования
для оценки
точной роли
утилитарных
модей и
других
систем
защиты со сходными
целями в
развивающихся
странах.
·
В
некоторых
странах
существует
еще один вид
защиты[344],
позволяющий
патентообладателю
защитить
улучшение
собственного
изобретения.
Эти так
называемые патенты
улучшения или
удостоверения
о добавлении,
которые,
обычно,
истекают
одновременно
с основным
патентом,
предназначены
для защиты
улучшений, не
обладающих
необходимым
уровнем
изобретательности
для получения
отдельного
патента.
Правовая
неопределенность,
связанная с
разрешением
патентообладателю
в любой
момент на
протяжении
срока
патента
расширить
эффективные рамки
защиты, может
стать
препятствием
на пути
желания других
изобретателей
использовать
соответствующие
идеи в
качестве
элемента
новых изобретений
или для
дизайна
«вокруг»
запатентованных
изобретений. Патентная
система,
обеспечивающая
такие патенты
улучшения
параллельно
со
сравнительно
высоким
уровнем изобретательных
шагов, может,
однако, предотвратить
несправедливое
продление
сроков
патентной
защиты, что
иногда
происходит,
если
разрешают
отдельно
патентовать
сравнительно
незначительные
улучшения.
Выводы
Мы
решили включить
здесь
рекомендации
из других разделов
и изложить
элементы
конкурентной
модели
патентного
законодательства,
представленные
на
рассмотрение
развивающихся
стран. Они
подытожены
во Врезке 6.1.
Врезка 6.1
Сводка
рекомендаций
по патентной системе
Развивающиеся
страны*
·
Полностью исключить
патентоспособность
диагностики,
лечения и
хирургических
методов лечения
человека и
животных
·
Исключить
патентоспособность
растений и
животных,
придерживаясь
ограничительного
определения
микроорганизмов
·
Исключить
патентоспособность
компьютерных
программ и
бизнес-методов
·
Избегать
патентования
нового
использования
известных
продуктов
·
Избегать
использования
патентной
системы для
защиты
культур
растений, а
также, по возможности,
генетических
материалов
·
Обеспечить
международное
исчерпание
патентных
прав
·
Обеспечить
эффективную
систему
принудительного
лицензирования
и адекватные
положения о
правительственном
использовании
·
Обеспечить
наиболее
широкие
возможные рамки
исключений
из патентных
прав, включая
адекватное
исключение для
научно-исследовательской
деятельности
и четко
изложенное
«исключение
Болар»
·
Применять
строгие
стандарты
новизны, изобретательного
шага и
индустриальных
приложений
или
утилитарности
(рассмотреть
возможность
более
высоких
стандартов,
по сравнению
с теми,
которые ныне
применяются
в развитых
странах)
·
Пользоваться
строгими
требованиями
патентоспособности
и раскрытия,
предотвращающими
чрезмерно
широкие
патентные
формулы
·
Обеспечить
сравнительно
недорогие
процедуры
возражений и
пересмотра
·
Обеспечить
средства предотвращения
правоприменения
патентов,
содержащих
биологические
материалы
или связанные
с ними
традиционные
знания, полученные
в нарушение
законодательства
о доступе или
положений
КБР
·
Рассмотреть
возможность
альтернативных
форм защиты с
поощрением
субпатентуемых
местных
инноваций
Развитые
и
развивающиеся
страны
·
Применять
абсолютные
стандарты
новизны, так,
чтобы любое
раскрытие в
любом месте
мира
считалось
частью
предыдущих
работ
·
При
рассмотрении
патентных
заявок больше
учитывать
традиционные
знания
·
Обеспечить
обязательное
раскрытие в
патентных
заявках
информации о
географических
источниках
биологических
материалов, на
основе
которых
сделано
изобретение
Наименее
развитые
страны
·
Отложить
предоставление
защиты
фармацевтическим
изделиям по
меньшей мере до
2016 года. Те, кто
в настоящее
время
обеспечивают
такую защиту,
должны
серьезно
рассмотреть
возможность
законодательных
изменений.
*Эти
рекомендации
имеют
отношение к
большинству
развивающихся
стран.
Развивающиеся
страны,
стремящиеся
поощрить
определенную
технологическую
область,
нуждаются в
более
избирательном
подходе.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СЕКТОРА
Введение
Важным
шагом для
развитых
стран стало
поощрение
патентования
в
финансируемых
государством
научно-исследовательских
учреждениях
и
университетах.
Акт Байх-Доул
в США
позволил
университетам
патентовать
изобретения,
полученные в
результате
финансируемой,
на
федеральном
уровне, научно-исследовательской
деятельности
на основании
того, что это
поможет
коммерческому
использованию
результатов
научно-исследовательской
деятельности
и ускорит
инновации.
Большинство
других
развитых
стран
впоследствии
также
внедрили
аналогичные
программы. В
технически
более
развитых
развивающихся
странах также
имеется
достаточно
фактов,
подтверждающих
такую
патентную
дятельность.
В некоторых
развивающихся
странах
международные
патентные
заявки (через
ДПС) все чаще
поступают от
университетов
или
связанных с
ними
компаний.
Например, в
Китае в 2000 году
на университеты
и
научно-исследовательские
институты
приходилось
13.2% местных
патентных заявок[345], а в мае
2002 года Китай
заявил, что
научно-исследовательские
институты
будут
поощряться к
подаче
патентных
заявок в
рамках финансируемой
правительством
научно-исследовательской
деятельности[346]. В 2001году
главная
научная
организация
Индии - Совет
научных и
промышленных
исследований
была
вторым по
величине
заявителем
ДПС из
развивающихся
стран. Из 30
крупнейших
заявителей
ДПС из
развивающихся
стран, восемь
- университеты
или
научно-исследовательские
учреждения
общественного
сектора[347].
Вся эта
политика
основана на
теории о том,
что
патентование
учреждениями
общественного
сектора и
исключительное
(или ограниченное)
лицензирование
технологии для
использования
ее частным
сектором
приводит к
увеличению
объемов коммерческих
приложений.
При этом
утверждают,
что без
договора об
исключительном
доступе к
такой
технологии у
компаний нет
стимула
инвестировать
средства,
необходимые
для доводки
технологии
до рыночного
продукта. Те,
кто
придерживается
противоположной
точки зрения,
утверждают,
что для
передачи технологии
и
коммерческих
приложений
лучше всего
как можно
шире,
посредством
публикаций,
распространять
знания.
Невозможно
доказать
абсолютную
правоту какой-то
из этих точек
зрения.
Многое здесь
зависит от
конкретной ситуации.
По традиции,
«фундаментальные»
науки
рассматривались
в качестве
основной области
общественного
и
университетского
сектора, а
«прикладные»
науки
попадали в сферу
дятельности
частного
сектора. В
первом случае
научный
прогресс
поощряется
открытым публичным
обсуждением,
обменом
мнениями с
коллегами, а
также
благодаря
престижу, которым
пользуются
первооткрыватели.
Во втором
случае
система
стимулирования
и вознаграждения
коммерчески-финансовая,
основанная
на разных
формах
защиты
интеллектуальной
собственности.
В прошлом
существовала
органичная
налаженная
связь двух
вышеуказанных
систем[348].
Университетский
сектор
обеспечивал
не только
научный
прогресс, но
и квалифицированные
кадры для
частного
сектора.
В наше время
новаторство
рассматривается
как более
сложный
интерактивный
процесс.
«Переброска
знаний через
университетские
стены в
надежде на
лучшее»
больше не
считается достаточным
стимулом для
прикладного
использования
и
социально-экономической
пользы.
Поэтому введение
патентования
стали
рассматривать
как средство
изменения
структуры
стимулирования
в
общественном
секторе и преодоления
указанного
недостатка.
Различие
фундаментальных
и прикладных
наук которое
и раньше-то
было не
особенно
четким стало
еще больше
размываться.
Развитие
биотехнологии
y
привело к
тому, что
некоторые
области фундаментальной
науки, такие
как геномика,
стали
рассматривать
как области с
большим коммерческим
потенциалом.
Сочетание
этих двух
факторов
привело -
особенно в
США - к быстрому
росту
университетских
патентных
заявок, особенно
в
биомедицинской
области.
Факты
и
доказательства
на примере
США
Полученные
в США факты о
воздействии
Акта Байх-Доул
на передачу
технологии
не позволяют
пока придти к
какому-то
определенному
заключению. Хотя,
как
отмечалось,
происходило
быстрое
расширение
патентования
университетами,
это, само по
себе, не
демонстрирует
роста
коммерческого
использования
изобретений.
Нет
определенных
указаний на
то, что
научно-исследовательская
деятельность
в университетах
США привела к
росту числа
изобретений
или к лучшим
изобретениям,
чем было бы в
отсутствие
Акта
Байх-Доул.
Нет также указаний
на то даже в
предположении,
что последнее
верно что
большее
число
изобретений
нашли
коммерческое
применение. Сторонники
Акта
Байх-Доул
указывают на
несомненное
увеличение
не только
числа
патентов, но
и лицензионного
дохода, а
также числа
новых компаний,
созданных на
основе
университетов.
По оценкам, в 2000
году общий
лицензионный
доход
университетов
США
составлял 678
млн долларов
США, причем
после 1980 года
было образовано
свыше 3000 новых
компаний[349].
Однако рост
патентования
и лицензионной
дятельности
можно также
приписать
росту
биотехнологии
и
результатам
дела «Дайамонд
против
Чакрабарти»,
которые,
по-видимому,
должны были
внести вклад
в рост
патентной
дятельности
в
университетах
и увеличение
числа научных
исследований
с
коммерческим
потенциалом[350]. Кроме
того,
финансирование
научно-исследовательской
деятельности,
особенно НИЗ,
значительно
возросло с 1980
по 2000 годы. Затраты
в США на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность
в академических
учреждения
выросли, в
реальном
выражении, на
150% с 1980 по 2000 годы[351].
Ввиду этого,
сложно
определить
какую именно
роль сыграл Акт
Байх-Доул в
расширении
патентования
и - что еще
важнее -
привел ли он
к росту
передачи
технологии и
технологических
приложений.
В
общественном
секторе,
патентование
и лицензионная
дятельность
могут быть
как стимулом,
так и
препятствием
на пути
технологических
приложений.
Поощрение
коммерческого
использования
зависит от выдачи исключительной
лицензии
коммерческому
партнеру,
предполагая,
что
исключение
других лиц
дает необходимый
стимул для
того, чтобы
брать на себя
риск
инвестиций в
разработку и
коммерческое
использование.
Но в 2000 году 50%
предоставленных
в США
лицензий
были неисключительными[352].
Существует
точка зрения,
согласно
которой в
условиях,
когда
университеты
патентуют
технологию
на
неисключительной
основе, преимущества
в передаче
технологии,
по сравнению
с простотой
обычной
публикации
результатов,
теряются,
потому что
число тех,
кто может
воспользоваться
технологией
для
дальнейшего
ее развития,
ограничено в
силу
лицензионных
процедур и
затрат. Теряется
также и
стимул для
дальнейшего
развития и
коммерческого
использования
на основе исключительной
лицензии.
Неисключительное
лицензирование,
фактически,
представляет
собой налог
на
пользователя
технологии[353].
Исключительное
же
лицензирование,
по-видимому,
важнее всего
на ранних
этапах развития
технологии,
когда
требуется
значительная
дальнейшая
разработочная
работа, но
оно, по своей
природе,
связано со
«ставкой на
победителя». В
некоторых
документированных
случаях лицензирование
не привело к
коммерческому
использованию
технологии,
которая могла
бы быть
использована
другими
компаниями,
не получившими
лицензию.
Когда же
университеты
разрабатывают
«готовую к
использованию»
технологию,
на которую
существует
очевидный
спрос, здесь
явно можно
получить
доход от патентования,
но можно
также и
утверждать, что
дополнительных
преимуществ
в передаче
технологии
нет,
поскольку
такого типа
технологией
частный
сектор
заинтересовался
бы в любом
случае.[354]
Университетам,
создающим
новые
продукты и
процессы,
патентование
может дать
полезный
источник
дополнительного
дохода, хотя
при этом надо
также
учитывать и
существенные
административные
затраты по
передаче
технологии и
затраты на
патентные
заявки и
сборы на
поддержание
патентов в
силе.
Например, в 1999
году
Калифорнийский
университет
(КУ) получил
общий
доход в 74 млн
долларов США
за счет
лицензионных
сборов, при
общих
затратах на
офис
технологической
передачи в 24
млн долларов
США. Из
«прибыли» в 50
млн долларов
США около 30
млн долларов
США пошло
университетским
изобретателям,
остаток же
пошел на
финансирование
университетских
научно-исследовательских
программ[355].
Разумеется,
КУ одно из
передовых научно-исследовательских
учреждений
мира, в
среднем же
финансовый
возврат от патентования
и
лицензирования
в США гораздо
ниже.
По оценкам,
лицензионное
финансирование
новой
научно-исследовательской
деятельности
в
университетах
США
составило в 1999
году лишь 149
млн долларов
США, по
сравнению с 30
млрд долларов
США,
затраченных
на всю
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
в
академических
учреждениях
США в 2000 году[356].
Факты
и
доказательства
из развивающихся
стран
В США
почти не
собрано
фактов о том,
как патентование
в
университетах
влияет на
научно-исследовательские
приоритеты, и
влияет ли оно
вообще. В
развивающихся
странах, где
патентование
находится на
гораздо более
низком
уровне, таких
фактов еще
меньше. Мы,
тем не менее,
считаем, что
могут
возникнуть
потенциальные
противоречия
между
необходимостью
обеспечить
защиту
интеллектуальной
собственности
научно-исследовательских
учреждений и
достижением
более
широких
социальных
задач, особенно
тех, которые
касаются
запросов
бедных
производителей.
Чтобы
продемонстрировать
те проблемы,
с которыми
сталкиваются
развивающиеся
страны при
разработке
политики
использования
ИС в
учреждениях,
финансируемых
из общественных
фондов, и в
отсутствие
каких-либо существенных
публикаций
мы решили, в
качестве примера,
использовать
данные
одного из сельскохозяйственных
научно-исследовательских
институтов
одной из
развивающихся
стран,
которую мы
посетили во
время нашей работы.
Нас поразило
энергичное
введение защиты
интеллектуальной
собственности
и сознательные
усилия по
изменению
традиционно
открытой
культуры
научных
исследований.
Такое изменение
потребовало
введение
защиты всех
интеллектуальных
активов
института, а
также
лицензирования,
с целью
получения дохода.
В отношении
мелких
фермеров,
принимавших
участие в
правительственных
программах,
лицензирование
было
бесплатным.
Хотя в
директивах
института и
говорилось о
том, что
указанная
политика
должна быть
внедрена без
принесения в
жертву
социальных
аспектов, там
также недвусмысленно
подчеркивалось,
что отказ от
защиты
интеллектуальной
собственности
скорее
исключение, а
не правило, и
что любые исключения
должны
рассматриваться
комитетом по
интеллектуальной
собственности.
С такими
изменениями
политики
связано и требование
правительства
о том, что
учреждения
должны изыскивать
30% своих
средства из
неправительственных
источников.
Более или
менее явный
упор, при
этом, сделан
на улучшении
общей
конкурентоспособности
коммерческого
и экспортного
сельского
хозяйства за
счет сотрудничества
с
агробизнесом.
Здесь, в
частности, важной
областью
является
развитие
трансгенных
культур,
поскольку
крупные
транснациональные
компании
владеют
большей частью
необходимой
фирменной
технологии[357].
Очевидно,
рано судить о
том, как
такая новая
политика
может
повлиять на
научно-исследовательскую
деятельность
и ее
приоритеты.
Мы обратили
внимание на
сознательные
усилия по обеспечению
финансовых
выгод для
исследователей
и
соответствующие
стимулы для всего
института.
Однако, мы
считаем, что,
при введении столь
значительных
изменений в
процесс научно-исследовательской
деятельности,
в ее культуру
и стимулы,
очень важно
не забывать и
о социальной
миссии
научно-исследовательского
института.
Доводом в
пользу принятия
Акта
Байх-Доул
было
поощрение
более
быстрой передачи
технологии и
ее
приложений, а
не поиск
финансирования
для
общественных
учреждений и
научных
сотрудников.
Если действовать,
в первую
очередь, из
финансовых
побуждений,
то у
правительства
может возникнуть
соблазн
снизить
уровень
своего финансирования,
считая, что
институт
сможет
заручиться альтернативными
источниками
финансирования.
В качестве
альтернативы,
правительство
может
предложить
дополнительное
финансирование
за счет
лицензирования
ИС. В любом
случае,
существует
опасность
того, что научно-исследовательские
приоритеты
будут приспособлены
к самому
крупному
потенциальному
рынку,
которым, в
данном
случае,
является
коммерческий
сельскохозяйственный
сектор, с
возможным
ущербом для
бедных фермеров.
На
основе
вышеизложенного,
мы считаем,
что в
государственных
научно-исследовательских
заведениях
развивающихся
стран есть
место
для защиты
ИС с целью
поощрения
передачи и
внедрения
технологий.
Однако важно,
чтобы,
при этом:
·
Доступ
к
альтернативным
источникам
финансирования
не становилсял
главной
целью, - еюкоторой
должна быть
передача
технологии.
·
Велось
наблюдениеНеобходимо
за тем,обращать
внимание на
то, чтобы, в
поисках
более
высоких
лицензионных
доходов, не менялисьизменить
научно-исследовательскиех
приоритетыов,
особенно в
отношении
бедных слоев
населения,
например, в сельском
хозяйстве
или
здравоохранении.
·
Патентование
и
лицензирование
осуществлялосьют
лишь там, где
сочтено
необходимымжелают
поощрять
развитие
частного
сектора и внедрение
технологии.
·
Тщательно
продумывалась
Нужно
тщательно
продумать
возможность
«защитного»
патентования
в области
важных
изобретений,
особенно для
использования
в качестве
переговорного
средства там,
где
дополняющими
технологиями
владеет
частный
сектор, и где
для доступа к
ним может
быть необходимо
перекрестное
лицензирование.
·
Приобретением,
необходимого
равновесия
достигают
приобретением
экспертных
знаний по ИС
такими
государственными
учреждениями,
которые
прежде не
обладали
знаниями в
этой области,
не забывая,
однако, о
задачах
государственной
политики в
области
научно-исследовательской
деятельности. в
которых,
обычно,
раньше таких
знаний не было.
КАК
СИСТЕМА
ПАТЕНТОВАНИЯ
МОЖЕТ
ЗАТРУДНИТЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИННОВАЦИИ
Положение
дел в
развитых
странах
Поскольку
патентная
система
применяется
в новых
технологических
областях, то,
как мы
видели,
главным
здесь
является
вопрос о том,
можно ли добиться
равновесия
между
реальным
стимулированием
изобретения
полезных
технологий и
сооружением
препятствий
на пути проведения
исследований
другими
сторонами, а
также как защитить
мелкие или
промежуточные
технологии.
Многие
утверждают,
что
стандарты
патентования,
особенно в
США, сегодня
чересчур занижены,
и что выдают
слишком
много тривиальных
патентов;
утверждают
также, что
из-за давления,
оказываемого
на патентных
экспертов,
выдают
чересчур
много
патентов, которые
были бы
недействительными,
если бы их
оспаривали в
судах[358].
Проблемы
США были
охарактеризованы
следующим
образом:
«
нашей
патентной
системе,
которая
определенно
поощряет
инновации,
тем не менее
грозит
опасность возведения
ненужных
препятствий
на пути инноваций,
позволяя
владельцам
множественных
прав
«облагать
налогом»
новые продукты,
процессы и
даже
бизнес-методы.
Огромное число
патентов
сегодня
означает, что
существует весьма
реальная
опасность
того, что тот
или иной
продукт или
услуга
нарушают
множество
патентов.
Более того,
многие
патенты относятся
к продуктам и
процессам,
уже находящимся
в широком
употреблении
в момент выдачи
патента, что
затрудняет
для компаний,
фактически
создающих
свое деловое
предприятие
и
выпускающих
изделия,
изобретать
что-то
«вокруг»
таких
патентов.
Если
прибавить к этому,
что
патентообладатель
может добиться
судебного
решения,
угрожающего
остановить
работу
компании-нарушителя,
то возможность
«затора»
становится
вполне
реальной»[359].
Это,
по-видимому,
может
приводить к
«извращенному»
с
общественной
точки зрения
поведению
компаний и
общественных
учреждений. Организации
могут
прибегать к
патентованию
для того,
чтобы
предотвратить
для других
доступ к тем
или иным
областям
научно-исследовательской
деятельности
или чтобы не
допустить
блокирования
своей
научно-исследовательской
деятельности
другими
организациями.
Они могут
также
обеспечить
себя патентными
«портфелями»
в качестве
переговорного
средства, с
тем, чтобы
через
перекрестное
лицензирование
получить
доступ к
технологии других
компаний. Это
особенно характерно
для малых
высокотехнологических
компаний. Мы
отмечали в
Разделе 3
важность
такой
стратегии в
сельскохозяйственной
и
биотехнологической
отраслях и
упомянули, в
какой
степени это может
способствовать
дорогостоящим
судебным
патентным
тяжбам, с
возможными
отрицательными
последствиями
для
конкуренции
и
концентрации
производства.
Эту
проблему
недавно
хорошо
изложил директор
фирмы «Сиско»
на заседании
Федеральной
торговой комиссии
США:
«Для
многих людей
и компаний
получение
патентов
стало
самоцелью
не для защиты
инвестиций в
научно-исследовательскую
деятельность,
а для
получения
доходов
через лицензирование
(«задержку»)
других
компаний, фактически
изготовляющих
и сбывающих
свои
продукты,
причем эти
компании
даже не подозревают,
что те
запатентованы.
Они стараются
патентовать
так, чтобы
другие люди и
компании
непреднамеренно
нарушали
патенты, и
ждут пока те
успешно
выпустят
продукт на
рынок. Они
закладывают
мины. Те, кто
регистрируют
такие
патенты и
извлекают
лицензионные
платежи со
стороны
успешных
деловых предприятий,
играют в
патентную
систему, как
в лотерею
Им
выгодны
длительные
задержки в работе
патентных
бюро и
ведомств, так
как окончательный
срок
патентов
удлиняется
на неопределенный
срок, в то
время, как
другие заняты
выпуском
изделий. Они
выигрывают
от высокой
стоимости
судебных
тяжб, требуя
лицензионных
вознаграждений,
которые ниже судебных
затрат,
надеясь, что
им будут платить
даже те, кто
ничего не
нарушил, или
же, если нарушил,
то им гораздо
дороже
обойдется
изменить
изделие. Это
дает
возможность
поживиться
разного рода
юристам,
лицензионным
компаниям и
консалтинговым
фирмам,
которые утверждают,
что помогают
людям
«заминировать»
даже такие
патентные
портфели, о
существовании
которых они
не
подозревали.
Трудно предположить,
что это может
вносить
какой-то
вклад в
прогресс
наук и
полезных
искусств»[360].
Есть,
разумеется, и
те, кто
утверждают,
что подобная
ситуация -
необходимая
цена стимулирующего
эффекта
патентования,
и что
лицензионными
стратегиями
можно смягчить
большую
часть
отрицательных
эффектов.
Можно долго
обсужать
масштабы
этой проблемы
и преград на
пути
научно-исследовательской
деятельности,
но наша
главная задача
- помочь развивающимся
странам с
тем, чтобы те,
по возможности,
избежали
аналогичных
проблем в своих
режимах ПНИС.
Вопрос
об
инструментах
научно-исследовательской
деятельности
относится к
общественному
и частному
секторам.
Инструменты
научно-исследовательской
деятельности,
по
определению,
включают
«весь спектр
средств,
используемых
учеными в
лаборатории,
признавая в
то же время,
что с других
точек зрения
те же
средства
можно рассматривать
как «конечные
продукты»[361]. В
общественном
секторе это
может быть
проблематично,
в
особенности,
например,
когда один
университет
желает
получить
доступ к
запатентованной
технологии
другого
университета
для своих
научно-исследовательских
целей, что
может
показаться
странным,
особенно в
случае, когда
оба
университета
работают за
счет общественного
финансирования.
Но это - логическое
cледствие
введения
патентования
в университетской
среде.
Потенциальные
проблемы здесь
существуют
во всех
направлениях.
Университеты
могут
пожелать
получить
доступ к
технологии
частного
сектора и
наоборот. Как
мы уже
видели,
компании
частного
сектора могут
испытывать
трудности во
взаимном доступе
к технологии,
что приводит
к ряду защитных
стратегий в
попытке
преодоления
указанных
трудностей.
По
данным
недавно
проведенного
в США исследования,
хотя
масштабы патентования
инструментов
научно-исследовательской
деятельности,
необходимых для
открытия
новых
лекарств
(таких, как
генные
последовательности)
возросли, нет
доказательств
того, что это
как-то
затруднило открытие
новых
лекарственных
препаратов[362].
Для смягчения
потенциальных
проблем
применяют разнообразные
стратегии,
включая
лицензии на
патенты,
способные
заблокировать
научно-исследовательскую
деятельность,
изобретения
в обход
патентов,
переход в те
области
научно-исследовательской
деятельности,
где есть больше
свободы
действий,
перевод
научно-исследовательской
деятельности
за границу либо
просто
нарушение
патента (или
неформальное
использование
исключений,
касающихся
научно-исследовательской
деятельности).
Таким
образом,
организации,
в целом, нашли
пути решения
этой
проблемы. Тем
не менее,
операционные
затраты по
осуществлению
научно-исследовательской
деятельности
возросли, и
задержки
участились,
так как при
этом нужно обнаружить
патенты,
способные
предотвратить
необходимый
доступ, вести
переговоры с
соответствующими
сторонами и
нести
лицензионные
и
юридические
затраты.
Однако в
среде организаций
и учреждений
уже
произошли
изменения по
адаптации к
работе в
таких
условиях. Как
уже
упоминалось,
патентное
ведомство
США
выпустило
новые
указания,
повышающие
утилитарный
барьер для
генных
патентов[363].
НИЗ также
издал новые
указания, направленные
на смягчение
проблем
биомедицинских
исследований[364].
Выводы
вышеупомянутого
исследования
заключаются
в том, что
несмотря на
цену, которую
платит
общество,
решая
проблемы, касающиеся
инструментов
научно-исследовательской
деятельности,
маловероятно,
что это перевешивает
положительный
вклад стимулирования
научно-исследовательской
деятельности
в результате
защиты
интсрументов
такой
деятельности[365].
Отношение
к
развивающимся
странам
Это,
разумеется,
не означает,
что не было
бы желательным
снизить
социальные
недостатки,
связанные с
инструментами
научно-исследовательской
деятельности,
когда
имеется
отрицательное
воздействие
на преимущества
системы. Как
мы уже
отмечали, развивающиеся
страны могут
смягчить эти
проблемы
принятием
соответствующих
патентных
систем, с ограничением
на
патентование
генов и с необходимыми
исключениями
в случае
научно-исследовательской
деятельности.
Этим, однако,
проблема
полностью не
решается.
Большая
часть научно-исследовательской
деятельности,
имеющей
отношение к
развивающимся
странам, может
осуществляться
в развитых
странах или в
сотрудничестве
с
исследователями
развитых
стран.
В этих
обстоятельствах
действуют
соответствующие
правила, принятые
в развитых странах.
Хотя, в
целом, общее
воздействие
патентования
инструментов
научно-исследовательской
деятельности
может и не
быть столь
существенным,
научно-исследовательские
приоритеты,
касающиеся
развивающихся
стран, сосредоточены
в
сравнительно
узких областях,
где обойти
проблемы
инструментов
научно-исследовательской
деятельности
может быть
нелегко.
Одним из
примеров
этого, типичным
для
развивающихся
стран,
является
патентование
рецептора CCR5,
который, как
было потом
установлено,
играет
важную роль в
передаче вируса
ВИЧ/СПИД.
Врезка
6.2
Генный
патент CCR5
При
определении
генной
последовательности
генома
человека
американская
компания Human Genome Sciences Inc. (HGS) выделила
ген CCR5.
Компания
провела в
гомологической
базе данных
известных
генетических
последовательностей
поиск и
пришла к
заключению,
что
найденный
ген
принадлежит
к семейству
клеточных
рецепторов,
после чего
компания
подала
заявку на
получение
патента.
В
феврале 2000
года фирма HGS получила
патент США №
6025154
«Полинуклеотиды
кодирования
человеческого
белка G
хемокинезного
рецептора HDGNR10
(называемого
теперь CCR5)»,
содержащего
широкую
формулу
генных и общемедицинских
применений,
таких как
блокирование
или
улучшение
рецепторных
функций.
Позднее
в нескольких
академических
центрах (в
том числе в
научно-исследовательском
центре по СПИДу
им. Аарона
Дайамонда и
национальных
институтах
здравоохранения)
было установлено,
что ген CCR5
отвечает за
рецепторный
белок,
используемый
вирусом ВИЧ
для
проникновения
в иммунные
клетки.
Рецептор
представляет
собой
межмебранную
молекулу на
поверхности
клеток
иммунной
системы,
прикрепляющую
их к
поврежденным
и больным
тканям. Вирус
ВИЧ
пользуется
этими
рецепторами
для
проникновения
в клетку.
Определенные
генные
мутации CCR5 с 32-базовым
парным
пропуском приводят
к сдвигу
базисного
считывающего
остова
последовательности
ДНК. Это
приводит к
значительному
укорачиванию
рецептора
белка и
неспособности
достичь
поверхности
клетки,
предотвращая,
таким
образом, заражение
клеток
вирусом ВИЧ и
снижая скорость
распространения
инфекции.
Лица с
мутантным CCR5 гораздо
менее
подвержены
заражению
ВИЧ. Этот ген
может быть
средством
определения
нового
лечебного
класса для
пациентов с
ВИЧ/СПИД,
такого как
препараты,
блокирующие
рецепторный
белок.
Во
время
выделения
фирмой HGS
гена CCR5 и
подачи ею
заявки на
патент,
компания не знала,
что этот
рецептор
одна из точек
клеточного
проникновения
вируса ВИЧ в
организм
человека.
Широкие
рамки
патента,
однако, означают,
что HGS
получила
права на
любое
использование
гена, а
значит и на
лицензионные
платежи по
лицензионным
контрактам.
Хотя HGS уже
согласовала
вопрос
нескольких
лицензий на
использование
рецепторного
гена CCR5 в
научно-исследовательской
деятельности
по
разработке
новых
лекарств,
указанный пример
демонстрирует
возможную
опасность,
связанную с
предоставлением
патентов на
изобретения,
которые,
фактически,
немногим
отличаются
от открытий,
где указанное
в патентной
формуле
использование
спекулятивно
и основано на
неполных знаниях
о функции
гена.
Мы также
довольно
глубоко
рассмотрели
вопросы,
касающиеся
использования
запатентованных
последовательностей
ДНК для
изучения
малярии.
Сотрудники Инициативной
программы
вакцины
против малярии
(ИПВПМ)
установили
определенный
белковый
антиген (MSP-1),
который
может
оказаться
важным для
разработки
эффективной
вакцины
против
малярии. Было
проанализировано,
кто владеет
патентами,
относящимися
к этому
белку, при
этом было
установлено
несколько
удивительных
фактов:
·
Патентование
последовательностей
ДНК для
антигена -
очень
сложный
процесс.
Имеется до 39
патентных
«семейств»,
которые могут
потенциально
иметь
отношение к
разработке
вакцины на
основе MSP-1.
·
На
ранних
этапах
научно-исследовательской
деятельности
по MSP-1
были выданы
патенты на
основе
научной методологии,
которая
потом
оказалась
ненадежной.
·
Ссылки
на ранние
работы во
многих
патентных
заявках,
повидимому,
неполные, так
что
соотнести
один патент с
другим представляется
затруднительным.
·
Отсюда
следует, что
целый ряд
патентов может
оказаться
недействительным
(проверить
это можно
лишь
юридическими
средствами
либо при повторном
рассмотрении).
В целом,
рамки патентных
формул
(определяющие
возможные
нарушения),
повидимому,
шире,
необходимых[366].
В такой
ситуации
коммерческая
научно-исследовательская
организация
может решить
перейти в другую
область
научных
исследований. У ИПВПМ
(созданной на
средства
благотворительных
организаций
для
ускорения
разработки
противомалярийной
вакцины)
большого
выбора не
было, она
должна была
работать в
этих сложных
условиях с
высоким
затратами
(денег и времени).
При этом
ИПВПМ
установила,
что хоть и маловероятно,
что
противомалярийная
вакцина
будет иметь
высокую
коммерческую
ценность,
патентообладатели
промежуточных
патентов,
зачастую,
нереалистично
высоко
оценивают
свою
технологию.
Эту проблему можно
решить
уступкой
части
лицензионных
платежей патентообладателям
промежуточных
патентов, но
это, в свою
очередь,
создает
возможную
проблему
лицензионного
несоответствия,
когда
лицензионные
платежи
патентообладателям
промежуточных
патентов
чересчур
высоки, по
сравнению с
лицензионными
платежами за
готовый
продукт.
В
сельском
хозяйстве
также
возникли
аналогичные
проблемы,
имеющие
место, в
основном, в
контексте
КГМСИ.
Главная
проблема
касается
доступа к
конкретным
технологиям,
по которым
центры КГМСИ
должны
проводить
научные
исследования[367]. В ряде
случаев
центральный
вопрос
касался
условий
предоставления
лицензии
патентообладателями.
Среди них
соглашения,
оговаривающие,
что
технология
может быть
использована
«только для
научно-исследовательской
деятельности»
и условия
«достижения
через
технологию»,
имеющие последствия
для любых
новых
изобретений,
разработанных
путем
технологических
приложений. В
одном случае
на
лицензионные
переговоры
ушло
несколько
лет, потому
что патентообладатель
предоставил
одной компании
исключительную
лицензию. В
другом
случае,
лицензионные
условия,
требовавшие доступ
к
собственной
фирменной
базе данных
генома
культуры
риса,
оказались
неприемлемыми.
КГМСИ также
испытал
ограничения
и чрезмерные
затраты на
доступ к
научной базе
данных,
необходимой
для своей
работы. Эти
проблемы
обострились
после
вступления в
силу
Директивы ЕС
о базах
данных.
Известен,
наконец,
случай «Золотого
риса» (см.
врезку 6.3).
Указанный
случай
подчеркивает
частое непонимание
территориальной
природы прав на
ИС.
Исследователи,
работающие в
национальных
или международных
научно-исследовательских
центрах,
расположенных
в
развивающихся
странах,
часто, без
необходимости,
волнуются в
отношении
запатентованной
технологиию.
Та действительна
за границей,
но не в
стране, где
расположен
тот или иной
центр. В
некоторых
случаях такая
озабоченность
может быть
связана с желанием
не
противоречить
поставщикам
технологии,
обладающих
необходимыми
знаниями и
квалификациями,
либо
спонсорам из
развитых
стран, в
отношении
которых у них
может создаться
впечатление,
что те желали
бы защиты прав
на ИС.
Врезка 6.3
«Золотой рис»
Культуры,
выращиваемые
для бедных
слоев населения
и сбываемые в
развивающихся
странах,
почти не
представляют
для
транснациональных
компаний
никакого
коммерческого
интереса.
Были случаи,
когда
компании
бесплатно
предоставляли
лицензии
сельскохозяйственным
научно-исследовательским
учреждениям
общественного
сектора,
работающим
с
запатентованной
технологией
для бедных
фермеров
развивающихся
стран. Одним
из таких
примеров
является
«Золотой рис».
«Золотой
рис» содержит
повышенный
уровень витамина
A, что
дает большие
потенциальные
преимущества
для
здравоохранения
развивающихся
стран, где 100
миллионов
человек (в
основном, дети)
страдают от
недостатка
витамина A (что может
привести к
слепоте). В
августе 1999 года
при работе
над
научно-исследовательским
проектом,
финансируемым
Рокфеллеровским
фондом, ученым
Инго
Потрикусу
(Швейцарский
федеральный
институт
технологии) и
Питеру Бейеру
(университет
города
Фрайбург)
удалось ввести
в геном риса
три гена два
гена
нарцисса и
один бактерии
так, что в
зерне риса
появился бета-каротин,
провитамин
витамина A.
Согласно
отчету 2000 ISAAA[368],
однако, с
технологией
«Золотого
риса» связано
70
запатентованных
процессов и
продуктов,
при этом
используемые
гены и методы
являются
интеллектуальной
собственностью 32
компаний и
университетов.
Правовые
сложности
всего этого
комплекса
патентов,
необходимого
для
дальнейшей
разработки,
испытаний и
сбыта риса,
оказались
для ученых
чересчур
запутанными,
и в мае 2000 года
они
заключили
договор с
фирмой «АстраЗенека»
(сегодня
часть
«Синдженты» -
крупнейшей в
мире
компании по
сельхозбиотехнологии).
Согласно
договоренности,
«Синджента»
приобрела
права на
«Золотой рис»,
что
позволило компании
использовать
коммерческий
потенциал
соответствующей
технологии. В
обмен на это,
она
согласилась
на безлицензионное
распространение
риса среди
фермеров
развивающихся
стран,
зарабатывающих
менее 10000
долларов США
в год.
Сотрудничество
продолжилось
и в 2000 году.
«Синджента» связалась
с разными
компаниями
(включая «Байер»
и «Монсанто»),
владеющими
главными
патентами на
технологию
«Золотого
риса», чтобы
обеспечить
аналогичное
«спонсирование»
бесплатного
лицензирования.
Но в
странах, где
технология
не подпадает
под местную
защиту ИС,
пользоваться
ею может
каждый,
независимо
от того,
используется
ли она лишь
для себя или
в
коммерческих
целях, а
также от того,
защищена ли
указанная
технология
где-то в другом
месте.
Дальнейшие
исследования
прав на ИС
показали, что
большинство
развивающихся
стран не
имеют или
почти не
имеют патентов
на «Золотой
рис»[369],
следовательно,
несмотря на
разрекламированные
действия
транснациональных
компаний,
исследователи
и фермеры
этих стран вправе
свободно
разрабатывать,
выращивать и
продавать
«Золотой рис»,
не нарушая
ПНИС и без
риска
каких-либо
правовых
санкций.
Разумеется,
все это
выглядит иначе,
когда
производители
желают
экспортировать
свою
продукцию на
рынки, где
упомянутая
технология
подпадает
под патентную
защиту.
Существует
ряд
инициатив по
определению
взаимовыгодных
отношений
разных сторон
для снижения
остроты
проблемы
доступа к
защищенной
технологии, а
также для
снижения
операционных
и прочих
издержек.
Фармацевтические
компании, для
которых
важны патенты
на свои
изделия,
стараются, в
целом, не
патентовать
технологию,
могущую
повлиять на собственную
научно-исследовательскую
деятельность.
Так в 1999 году
десять
крупных фармацевтических
компаниий и
Британский
Траст
«Уеллком»
создали
консорциум[370] по
определению
местонахождения
300000 наиболее
распространенных
одиночных
нуклеотидных
полиморфизмов
(ОНП или SNP)[371],
что
позволило
создать
высококачественную
общую карту,
использующую
ОНП в качестве
равнораспределенных,
по геному человека,
меток, многие
из которых
будут использованы
для
определения
задач
лекарственных
исследований.
Недавно
Международный
генетический
консорциум[372], при
поддержке
широкой
группы
фармацевтических
компаний,
университетов
и фондов объявил
о создании
значительных
мощностей
для
крупномасштабного
нахождения
генных
последовательностей
в разных
образцах
тканей, начав
с крупного
проекта в
области рака.
Здесь,
опять-таки,
результаты
исследований
станут
общедоступными.
У целого
ряда
общественно-частных
партнерств
(ОЧП)
разработаны
стратегии ИС,
стремящиеся
сочетать
интересы
патентообладателей
с задачами
выпуска
изделий в
развивающихся
странах по
доступным
ценам, что,
обычно, связано
с
соответствующими
контрактами и
интеллектуальной
собственностью.
Например,
коммерческому
партнеру
могут уступить
право на
коммерческое
использование
на рынках развитых
стран в обмен
на
бесплатные
лицензии для
ОЧП в
развивающихся
странах. Можно
использовать
множество
стратегий, уравновешивающих
задачи ОЧП с необходимостью
обеспечения
разумного
поощрения
коммерческого
партнера. В
этих областях
существует
значительный
опыт, в том
числе у
Глобального
противотуберкулезного
альянса,
Международной
инициативы
по вакцине
против СПИДа
и Предприятия
по
противомалярийным
медицинским препаратам.[373]
Создается
новое
учреждение
Центр по
управлению
интеллектуальной
собственностью
в
научно-исследовательской
деятельности
по
здравоохранению
(ЦУИСНИЗ),
который постарается
проанализировать
«передовую практику»
в этой
области и
обеспечит
обучение и
службы
поддержки.
В
сельскохозяйственной
области есть
две организации
для
развивающихся
стран с
аналогичными
службами
поддержки и
информации в
области
биотехнологии.
CAMBIA в
Австралии,
среди
прочего,
развивает
простые в
пользовании
базы данных,
позволяющие
исследователям
легче
определить
имеющие к ним
отношение
патенты в
соответствующих
областях[374].
Международная
служба
приобретения
агробиотехнических
приложений (ISAAA)
бесприбыльная
организация,
стремящаяся донести
преимущества
новой
сельскохозяйственной
биотехнологии
до бедных
слоев населения
развивающихся
стран.
Спонсорами
ее являются
чреждения
общественного
и
частного сектора.
Ее задачи
включают
передачу
соответствующих
биотехнологических
приложений
развивающимся
странам,
создание
партнерств
учреждений
«южных» стран
с частным сектором
«северных»
стран и
укрепление
«юго-северного»
сотрудничества[375]. Были
предложены
дальнейшие
инициативы, способствующие
ускорению
биотехнологических
исследований
в сельском
хозяйстве[376].
Существует
необходимость
дальнейшего
развития
учреждений
и
стратегий,
способствующих
разработке и
приобретению
технологии, необходимой
для
научно-исследовательской
деятельности,
касающейся
развивающихся
стран; таких,
которые
стремятся оптимально
использовать
возможности
ИС и помочь
преодолеть
трудности
роста числа патентов
на
инструменты
научно-исследовательской
деятельности.
Мы также
считаем, что
при
разработке
инициатив по
облегчениюя
доступа к существенно
важнымнеобходимым
инструментам
научно-исследовательской
деятельности,
необходимоважно
продолжать
уделять
внимание
возможности
улучшения
патентных
систем как
развитых, так
и
развивающихся
стран, с
целью
решения проблем,
на которые
направлены
эти
инициативы.
Для
развивающихся
стран важным
соображением
являются как
правила игры,
так и то, как в
нее играют.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ГАРМОНИЗАЦИЯ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
Общая
информация
Растущая
интернационализация
торговли и большая
степень
международной
гармонизации
патентного
законодательства
и практики, а
также
упрощенная
процедура
заявок, в рамках
системы ДПС,
привели к
быстрому росту
числа
патентных
заявок.
Приведенный
на Рис. 6.1 рост
продолжается
и в 21-ом веке.
Не
удивительно,
что такой
рост привел к
увеличению
числа
накопившихся
нерассмотренных
патентных
заявок и к
задержкам в
патентных
бюро и
ведомствах.
Например,
средний период
рассмотрения
патентной
заявки в Китае
теперь составляет
около 46
месяцев,
аналогично
обстоит дело
и в других
крупных
патентных
ведомствах.
Чтобы
справиться с
работой,
большие патентные
ведомства
дополнительно
набирают на
работу
патентных
экспертов
(Патентное
ведомство
США,
например,
набрало 460
экспертов в
2001году,
ожидается,
что их число
составит около
600 в 2002 году). Даже
там, где есть
новые эксперты,
маловероятно
что
патентная
система сможет
обеспечить
быстрое и
сравнительно
недорогое
высококачественное
патентование.
Рис. 6.1
Мировой
спрос на патентные
права, 1995-1999 годы
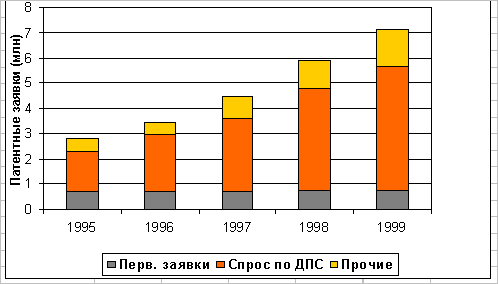
Данные
взяты
на
ЕПВ/JPO/USPTO
Trilateral Web-сайт. Источники:
http://www.jpo.go.jp/saikine/tws/tsr2000/graph3-1.htm
В краткосрочной
и
среднесрочной
перспективе,
вероятно,
патентные
ведомства
начнут признавать
работу
других
ведомств по
соответствующим
заявкам
(которые,
по-существу,
являются
заявками на
одну и ту же
тему). Например,
если подают
заявку и
проводят
патентный
поиск в США,
то при
рассмотрении
соответствующих
заявок ЕПВ
может
полагаться
на работу, проделанную
патентным
ведомством
США. Преимущество
более низких
затрат для
заявителя и
меньших
объемов
работы
делает такое
взаимопризнание
привлекательным
для всех
сторон.
На
проходившей
в марте 2002 года
конференции ВОИС
по
международной
патентной
системе[377]
выяснилось,
что вопрос
взаимопризнания
привлекает
всеобщее
внимание. На
конференции
производилось
сравнение
качества патентного
поиска
крупных
патентных
бюро и ведомств
и стало ясно,
что
некоторые
формы
взаимного
или
одностороннего
(когда страна
просто решает
признать
результаты
работы другого
ведомства)
признания
результатов
поиска
другими
крупными
ведомствами
будут внедрены,
повидимому,
довольно
скоро.
Однако, значительная
разница в
патентных
требованиях,
особенно в
высокотехнологических
областях, таких
как
биотехнология
и
компьютерное
программное
обеспечение,
означает, что
для взаимного
признания
отчетов по
анализу заявок
среди
крупных
патентных
ведомств может
потребоваться
дальнейшая
гармонизация.
Такая гармонизация
может также
явиться
небольшим, но
важным шагом
в
направлении
достижения «золотой
мечты»
патентного
мира
единого всемирного
патента,
действительного
в любом месте.
Договор
ВОИС об
основном
патентном законодательстве
В ВОИС
в настоящее
время
обсуждают
дальнейшую
гармонизацию
основного
патентного законодательства.
Нам уже,
примерно,
известно,
каковы могут
быть
результаты
таких обсуждений. В 1991 году
ВОИС почти согласовал
Договор об
основном
патентном
законодательстве.
Хотя
развивающиеся
страны и
внесли тогда
ряд своих
предложений,
окончательный
вариант
договора был,
по-существу,
гибридом
превалирующих
законодательств
ряда
развитых
стран, в
частности, США
и ЕС. Как
заметил
тогда один из
делегатов
развивающейся
страны,
парадокс
заключался в
том, что в
процессе
гармонизации
большинство
стран
попросили
привести
свои законодательства
в
соответствие
с
положениями
меньшинства.
За
неудачей тех
переговоров,
правда, последовало
соглашение
по тексту
ТРИПС, которое,
во многом,
способствовало
гармонизации
основных
патентных
законодательств
мира. Но даже
и с ТРИПС
остаются
различия между
патентными
законодательствами
многих стран,
включая США и
ЕС.
Начавшийся в
начале 2001 года
новый раунд
обсуждений в
ВОИС стремится
устранить
эти различия.
Но какую
форму может
принять
такой
договор, и
как должны
вести себя
развивающиеся
страны?
Хотя
обсуждения
пока на
раннем этапе,
они, вероятно,
основаны на
ранних
вариантах
ВОИС[378] и
намеках
некоторых
ведущих
стран о том,
что договор
будет,
по-существу,
системой
первой регистрации[379] в
сочетании с
подходящим
льготным
периодом.
Возможно
также, что
будет
сделана
попытка
устранить
значительное
число
связанных с
гибкостью
положений,
имеющихся в
настоящее
время в
ТРИПС,
которые мы
обсуждали
выше. В
договоре,
например,
могут захотеть
оговорить,
что
составляет
патентуемое изобретение,
как
определить
требования новизны,
изобретательного
шага и
индустриального
применения.
Ясно,
что если
развивающимся
странам не докажут,
что в их
интересах принять
новые
международные
правила,
ограничивающие
свободу
разрабатывать
подходящую
для них
политику по
ИС, они
должны будут
постараться
оставить у
себя
старые
гибкие
положения.
Выше мы
предложили
патентные
системы,
которые, по
нашему
мнению, соответствуют
интересам
развивающихся
стран. Как
объясняется
в Разделе 7,
развивающимся
странам следует
ожидать
значительных
препятствий
на пути
внедрения
патентных
систем. Если же
они примут
более
строгие
патентные
стандарты, то
институционные
и
административные
проблемы,
вероятно,
станут еще
более
серьезными.
В свете
того, что
гармонизация
ВОИС может
привести к
стандартам,
не учитывающим
интересов
развивающихся
стран, последние
должны
определить
свою
стратегию
дальнейших
действий.
Такая
стратегия,
например,
может быть
направлена
на то, чтобы
отражение
в глобальных
стандартах
были отражены рекомендациий
настоящего
отчета; она
может быть
нацелена на
продолжение
гибкого
подхода, либо
же на непринятие
процесса
ВОИС, если
тот не служит
интересам
развивающихся
стран.
Мы,
однако,
считаем, что -
в силу
озабоченности
тем, что
система
может
оказаться
перегруженной
патентными
заявками,
существенная
часть
которых,
вероятно,
непатентуема,
если
следовать
предлагаемым
нами
реформам - многие
из наших
предложений
по улучшению патентной
системы
важны также и
для развитых
стран.
Обсуждение
вопросов
патентных
реформ и гармонизации
концентрировалось
пока на том,
как улучшить
эффективность
существующей
глобальной
патентной
системы
упрощением
процедур,
устранением
дублирования
и общими
действиями в
направлении
гармонизации[380]. До сих
пор, однако,
недостаточное
внимание
уделяли
качеству
выдаваемых
патентов,
средствам,
уходящим на
правоприменение
и споры по
вопросам
патентных
прав, а также
на то, в какой
степени
выгоды
системы, поощряющей
технический
прогресс,
перевешивают
ее экономические,
административные
и правоприменительные
издержки.
Постоянно
возрастающий
спрос на
патентование
считается правом,
которое
должно быть
удовлетворено
за счет
растущей
производительности
процесса
предоставления
патентов при
возможном
дальнейшем
снижении их
качества. Мы
считаем, что
политические
деятели
развитых и
развивающихся
стран должны
постараться
вернуть
равновесие и
перейти от
количества
обратно в
сторону
качества.
Меньшее
число более
качественных
патентов,
сохраняющих
действительность
даже, когда
их
оспаривают в
судах,
явятся, в
перспективе,
более
эффективным
средством
снижения
нагрузки на
крупные
патентные
бюро и ведомства,
а также что
еще важнее -
они будут спсобствовать
более
широкой
поддержке патентной
системы.
Раздел
7
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Перед
развивающимися
странами
стоят серьезные
организационные
задачи
по внедрению
защиты ИС в
соответствии
с требованиями
ТРИПС.
Поскольку, в
среднесрочной
перспективе,
большинство
развивающихся
стран с
ограниченным
научно-техническим
потенциалом
почти ничего
не выиграют,
внедрив
обязательства
ТРИПС, основной
упор при
создании
режима ИС
должен делаться
на снижении
кадровых и
денежных затрат.
В то же время,
странам
нужно
эффективно
регулировать
национальные
режимы ИС и
гарантировать
их
общественную
пользу.
Технически более
развитые
развивающиеся
страны захотят
также
обеспечить
такое
положение,
при котором
режимы ИС
дополняют и
улучшают более
широкие
задачи
поощрения
технического
развития и инноваций.
Такие
задачи
включают
формулирование
соответствующей
политики и
законодательства,
администрирование
ПНИС в рамках
международных
обязательств,
а также правоприменение
и
конкурентное
регулирование
ПНИС, в
соответствии
с
национальным
уровнем развития.
Многие из
указанных
организационных
и
политических
задач ИС,
разумеется,
характерны
для любых
стран, но
особо остры
они во
многих
развивающихся
странах. Существенно
то, что
экономический
и нормативный
контекст
ТРИПС, в
котором
рассматривается
режим ИС в
развивающихся
странах,
зачастую
значительно
отличается
от контекста
развитых
стран.
Им
предстоит
здесь
сделать
нелегкий
выбор. Должны
ли
развивающиеся
страны, за
недостатком
собственных
средств,
удовлетвориться
перерегистрацией
патентов,
выданных в развитых
странах?
Стоит ли им
пытаться
разработать
собственную
систему
экспертизы патентов
для
внедрения
предложенных
нами разных
стандартов
патентоспособности?
В настоящее
время задача
эта для
учреждений
администрирования
ПНИС в
большинстве развивающихся
довольно
сложна.
В
настоящем
разделе мы
рассмотрим:
·
Каковы
требования к
разработке
эффективной
политики и
законодательства
ИС в
развивающихся
странах?
·
Как
должны
развивающиеся
страны
подходить к
внедрению
политики и
правоприменения
прав по ИС?
·
Как
могут
развитые
страны и
международные
учреждения
обеспечить
эффективную
техническую
помощь
развивающимся
странам?
РАЗРАБОТКА
ПОЛИТИКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ИС
Поскольку
большинство
развивающихся
стран,
включая НРС,
являются
либо членами
ВТО, либо
собираются
ими стать,
внедрение
положений
ТРИПС потребует
от них
законодательных
изменений, касающихся
индустриальной
собственности
и защиты
авторских
прав. В
некоторых
областях
такие
изменения
будут
сравнительно
незначительными,
в других же
может возникнуть
необходимость
в новом
законодательстве.
Многие развивающиеся
страны,
стараясь до
января 2000 года
удовлетворить
требованиям
ТРИПС, уже
изменили
свои
законодательства
по ИС. Гораздо
меньшее
число НРС
пока
завершило правовые
и
организационные
реформы,
необходимые для
практического
внедрения
ТРИПС. В дополнение
к ТРИПС,
страны, не
подписавшие
пока таких
международных
договоров,
как Парижская
и Бернская
конвенции,
могут
пожелать подписать
эти договора,
что
потребует
дальнейших
законодательных
изменений.
Развивающиеся
страны также
должны
сделать
выбор, касающийся
прочих
реформ ИС,
таких как
разработка
соответствующих
для них
систем
защиты культур
и
генетических
материалов
растений; они
должны
решить, как
защитить и
защищать ли
вообще
традиционные
знания в
рамках формальной
системы ИС; а
также как
делить
экономическую
выгоду и как
средствами
КБР регулировать
доступ к
национальным
биологическим
ресурсам.
Лишь
немногие
страны пока приняли
законодательство
в этих
областях. Это,
возможно, не
столько
вопрос
законодательства
или
потенциальных
возможностей,
сколько отражение
политических
разногласий
при выборе
той или иной
программы.
Кроме законодательных
изменений ИС,
развивающиеся
страны также
должны
рассмотреть
взаимодополняющие
реформы в
области
внутреннего регулирования,
такие как
научно-техническая
политика и
антитрестовое
законодательство.
Разработка
интегрированной
политики
Во
многих
случаях
развивающиеся
страны, при
разработке
всеобъемлющей
координированной
политики ИС,
встречаются
с особыми трудностями
в
сравнительно
новых для них
областях
общественной
политики[381]. Толчком
для
изменений
политики в
сфере ИС,
обычно,
являются
международные
соглашения
(например,
ТРИПС или
КБР),
подписываемые
странами,
которые не
всегда имеют
ясное представление
о том, как их
внедрять на национальном
уровне. В
правительственном
аппарате, как
правило, ИС
является
классическим
примером
«многоведомственного
вопроса»,
затрагивающего
интересы
нескольких
правительственных
ведомств с
разными позициями,
причем все
они должны
быть как-то взаимоувязаны.
Обычно,
промышленные
группы и
общественные
организации,
преследующие
конкретные
интересы или
имкющие свою
точку зрения,
пытаются
оказать
давление на
соответствующие
министерства
и ведомства.
Более того,
иностранные
правительства
также могут оказывать
формальное и
неформальное
давление,
когда это
затрагивает
их интересы,
так что процесс
выработки
политических
программ
усложняется[382]. В
идеале,
формулирование
политики ИС в
развивающихся
странах
должно
базироваться
на
тщательном
анализе того,
как использовать
систему ИС
для
осуществления
задач развития,
причем такой
анализ
должен быть
основан на
промышленной
структуре
страны, на режимах
сельскохозяйственного
производства
и на нуждах
здравоохранения
и образования.
Далеко не
всегда,
однако, можно
на месте найти
все
необходимые
для этого
экспертные
знания, факты
и опыт.
В
целом,
реальный
организационный
потенциал
многих
развивающихся
стран слаб, у
них, в
частности,
мало
опытного
высококвалифицированного
персонала.
Большинство
развивающихся
стран
зависят от
технической
помощи в
форме
косультаций
по законодательству,
от советов
экспертов и
от отзывов по
новому
законодательству.
Такую помощь
им оказывают
ВОИС и прочие
организации[383]. По
словам
одного
комментатора:
«НРС, в
частности, не
имеют
местных
экспертов
для оценки
соответствия
моделей
международных
законодательств
местным
экономическим,
социальным и
культурным
условиям. Там
часто нет
местных
юристов-экспертов,
и они вынуждены
полагаться
на
консультантов
со стороны,
приезжающих,
на
определенный
период
времени, на
подрядной
основе из
западных
стран, с которыми
у НРС
сложились
исторические
связи в
области
юриспруденции.
Проблема
особо остра в
вопросах ИС,
поскольку в
этой области
очень мало
специалистов
с особыми
техническими
и
юридическими
квалификациями,
а также с
экспертными
знаниям в
области
законодательства
по ИС».[384]
Таким
образом,
поскольку
процесс
выработки
политических
решений -
сложный
технический
процесс,
правительства
могут пожелать
его ускорить,
особенно,
когда нужно
уложиться в
международно
согласованные
временные
рамки. Они
могут,
поэтому, предоставить
разработку
законодательства,
с
минимальными
внутриправительственными
консультациями,
собственным
экспертам по
ИС (если
таковые
имеются) либо
положиться
на
иностранных
экспертов. В
обоих случаях
соблюдение
соответствия
законодательства
ИС политике
развития
часто бывает
неадекватным.
Здесь,
следовательно,
важна
способность
развивающихся
стран
скоординировать
правительственную
политику в
области
реформ ИС.
Имеются
определенные
указания на
то, что
некоторым
странам
удалось
создать
механизмы
улучшения
консультационно-политической
координации,
собрав
представителей
ключевых министерств
-
здравоохранения,
юстиции, науки,
охраны
окружающей
среды,
сельского хозяйства,
образования
и культуры
(для вопросов
защиты авторских
и
аналогичных
прав).
Зачастую, однако,
такие
механизмы
находятся
лишь в зачаточном
состоянии, с
неясной
степенью
эффективности.
Это особо
касается
интегрирования
вопросов ИС с
другими
областями
экономики и
политики
развития. Во
многих случаях
это,
возможно,
отражает тот
факт, что
указанные координационные
органы не в
состоянии воспользоваться
необходимыми
техническими
консультациями
и
экспертными
знаниями, кроме
того, это
также
отражает
различные внутриправительственные
интересы.
Говоря
о реформе ИС
в
развивающихся
странах,
часто
забывают
подчеркнуть
важность
самого
политического
процесса и
способности
заинтересованных
сторон в
правительстве
и вне его - участвовать
в
формировании
политики и
нового
законодательства.
Здесь бывают
разные случаи.
С одной
стороны, в
таких
странах, как
Индия, существует
широкая
система
общественных
консультаций
и дебатов
(включая
общественные
встречи-семинары
по таким
спорным вопросам,
как защита
биоразнообразия
и традиционных
знаний), а
также
высокий
уровень экспертных
знаний в
академических,
деловых и
юридических
кругах. С
другой
стороны,
например, в одной
из
рассмотренных нами
развивающихся
стран Африки,
к югу от
Сахары, новое
законодательство
по защите
авторских прав
было принято
просто в
результате
технического
процесса
представления
проекта, с
минимальными
общественными
консультациями
и дебатами.
Врезка 7.1
Выработка
решений с
участием
заинтересованных
сторон,
случай Южной Африки.
Южноафриканское
правительство
рассматривает
реформы
законодательства
по защите авторских
прав с конца
1990-х годов.
Главной заинтересованной
группой,
ранее
влиявшей на политику
правительства
в области
защиты авторских
прав, была
издательская
индустрия. В
последние
годы, однако,
растущую
роль стал
играть
сектор
образования,
призывающий ввести
законодательные
поправки для
решения
вопросов
электронной
защиты
авторских
прав,
дистанционного
образования,
особых
образовательных
программ и потребностей
инвалидов
(например,
слепых).
В 1998
году
министерство
торговли и
промышленности
опубликовало
Проект
административных
положений по
изменению
законодательных
норм, связанных
с Актом о
защите
авторских
прав. Образовательный
сектор
отреагировал
на это
созданием
Группы
задания по защите
авторских
прав под
эгидой
Южно-африканской
ассоциации
проректоров (SAUVCA) и
Комитета
директоров
техникумов (CTP).
Заинтересованные
стороны
пригласили
представить
документы,
отражающие
их позиции по
Проекту
административных
положений, а
также свои
замечания.
Поскольку
Проект ограничивал
возможности
образования,
Группа
задания по
авторским
правам подала
суммарный
документ с
замечаниями и
возражениями
по
образовательному
сектору. В
результате,
рассмотрение
Проекта административных
положений
было
отложено.
В мае 2000
года
министерство
торговли и
промышленности
снова опубликовало
предложения
по изменению
Акта о защите
авторских
прав. Была
создана группа
задания по
авторским
правам
электронных
материалов
при SAUVCA/CTP,
рассмотревшая
предложeнные
поправки и
другие
вопросы, не
включенные в
предложения
(например,
вышеупомянутые
в первом
абзаце
вопросы).
Предложeнные
поправки
снова были
сочтены
чересчур
ограничительными
для задач
образования.
После
обсуждений, с
участием
вышеуказанной
группы
задания и
министерств
торговли и
промышленности,
образования,
связи, а также
искусства,
культуры,
науки и
технологии,
наиболее спорные
поправки
были изъяты.
В
январе 2001 года
обе группы
задания были
распущены.
Вместо них
были созданы
два постоянных
комитета по
интеллектуальной
собственности,
представляющие
сектор
образования -
комитет SAUVCA по ИС и
комитет CTP по ИС. С тех
пор комитеты
провели
обсуждения с
министерством
торговли и
промышленности,
Ассоциацией
издателей
Южной Африки,
Международной
ассоциацией
издателей и
Альянсом
делового
программного
обеспечения.
Комитет SAUVCA по ИС в
настоящее
время
готовит
рабочую
документацию
по вопросам
«справедливого
использования»
и
«многоразового
копирования
в образовательных
целях»,
которая
будет представлена
для
дальнейшего
обсуждения с
заинтересованными
сторонами.
Такие
развивающиеся
страны, как,
например,
Кения, с их
более
длительной
традицией
выработки
политики ИС и
наличием
соответствующих
юристов,
представителей
академических
кругов и
других заинтересованных
организаций,
находятся
здесь,
примерно,
где-то
посредине
между двумя вышеуказанными
крайними
случаями. Во
время нашего
визита,
например, мы
смогли
встретиться
с членами
новосозданного
подкомитета
по ТРИПС,
отвечающего
за внедрение
соглашения в Кении.
В указанный
подкомитет
входят представители
разных
правительственных
ведомств и
частного
сектора. Мы
однако,
считаем, что
многие
развивающиеся
страны могут
намного улучшить
условия для
широкого
участия в
политике
реформ ИС.
Правительства
и спонсоры должны
уделить этой
задаче
гораздо
больше внимания.
Развивающиеся
страны и
содействующие
им
спонсорские
организации
должны кооперироваться
в деле
необходимой
«состыковки»
государственных
процессов
реформы ИС с соответствующими
аспектами
политики развития. Следует
прилагатьНужно
больше
усилий
прилагать
для
поощрения
широкого
участия
заинтересованных
сторон в
реформах ИС. В дополнение
к
предоставлению
международных
экспертов и
юридических
консультаций,
спонсоры
должны
стараться организовывать
местные
силы на проведение
исследований при
оказании
технического
содействия
спонсоры
должны
помочь на
месте
организовать
и анализа
своей
политики ИС и
вести
диалог с
заинтересованными
сторонами.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
И УЧРЕЖДЕНИЯ
ПНИС
Введение
Число
заявок и
предоставленных
ПНИС (см. Таблицу
7.1) в разных
развивающихся
странах бывает
разным, что
сильно
сказывается
на
организационных
требованиях
по
администрированинию
ПНИС. Заявки
частично
определяются
тем, является
ли та или
иная страна
членом ДПС
или других
международных
или
региональных
организаций.
В
большинстве
развивающихся
стран, однако,
в настоящее
время лишь
очень
незначительная
часть заявок,
соответствующих
этим
соглашениям,
достигает
«национальной
фазы», где
происходят
процессы
предоставления
прав и регистрации.
Среди прочих
факторов
различия национальных
законов и
правил ИС
(привлекательных
либо менее
привлекательных
в глазах заявителей),
а также
политики
транснациональных
корпораций в
области ИС.
В
обзоре ВОИС 1996
года[385] при
опросе 96
развивающихся
стран было
установлено,
что
администрирование
индустриальной
собственности
более, чем в
двух третях
случаев
осуществлялось
отделом министерства
торговли и
промышленности
или
министерства
юстиции. В 10
странах за
администрирование
отвечало
независимое
правительственное
агентство.
Администрирование
защиты
авторских
прав в трети
случаев
осуществлялось
отделом
министерства
образования
или культуры
и
независимым
агентством
по защите
авторских
прав в 15
случаях.
Интересно то,
что в одной
трети
опрошенных
стран вообще
не было
никакого
правительственного
ведомства,
ответственного
за
администрирование
защиты
авторских
прав.
Таблица
7.1 Объемы
заявок и
предоставления
ПНИС в восьми
развивающихся
странах, 1996-98
годы
|
Страны
|
1996
|
1997
|
1998
|
|
|
Заяв.
|
Пред.
|
Заяв.
|
Пред.
|
Заяв.
|
Пред.
|
|
Патенты
|
|
Китай*
|
52714
|
2976
|
61382
|
3494
|
82289
|
4735
|
|
Гватемала
|
104
|
8
|
135
|
15
|
207
|
17
|
|
Индия
|
8292
|
1020
|
10155
|
-
|
10108
|
1711
|
|
Ямайка
|
79
|
23
|
70
|
21
|
60
|
16
|
|
Кыргызстан*
|
20305
|
125
|
25103
|
133
|
33905
|
91
|
|
Малави*
|
39034
|
117
|
49934
|
49
|
67760
|
80
|
|
Судан*
|
39061
|
97
|
49920
|
37
|
67719
|
64
|
|
Вьетнам*
|
22243
|
61
|
27440
|
111
|
35748
|
N/a
|
|
Торговые
знаки
|
|
Китай**
|
150074
|
121475
|
145944
|
217605
|
153692
|
98961
|
|
Гватемала
|
8206
|
5490
|
10588
|
6369
|
9988
|
4806
|
|
Индия
|
N/a
|
4436
|
43302
|
N/a
|
36271
|
4840
|
|
Ямайка
|
1537
|
1346
|
1883
|
2195
|
2005
|
1966
|
|
Кыргызстан**
|
2803
|
3297
|
3008
|
2592
|
3112
|
2760
|
|
Малави
|
624
|
316
|
819
|
422
|
582
|
320
|
|
Судан**
|
1508
|
1508
|
1482
|
1482
|
1514
|
1514
|
|
Вьетнам**
|
8440
|
6615
|
7830
|
5174
|
2838
|
2534
|
|
Источник:
web-сайт
ВОИС www.wipo.int
*
Страны-члены
ДПС в этот
период.
**
Страны-члены
Мадридского
соглашения
или протокола
в этот
период.
Примечание:
Затраты на
включение
тех или иных
стран в
заявки ДПС
незначительны,
так что
заявители
почти всегда
называют в
своих
заявках
большое
число стран.
Поэтому, хотя
общее число
патентных
заявок в
странах-членах
ДПС и выглядит
очень
большим,
лишь очень
незначительная
их часть
достигает
«национальной
фазы», где от
соответствующих
национальных
ведомств
требуются
какие-то
существенные
шаги по
выдаче
патента.
|
В ряде
развивающихся
стран,
однако,
по-видимому,
наблюдается
существенное увеличение
числа заявок,
особенно в
странах, перешедших
к созданию
единого
полуавтономного
учреждения
по ИС,
ответственного
за
администрирование
как
индустриальной
собственности,
так и защиты
авторских
прав. Двумя
примерами
этого
являются
Ямайка и Танзания.
Существуют
весомые
аргументы в пользу
создания
единого
полуавтономного
учреждения по
ИС,
ответственного
за
администрирование
этих
вопросов под
контролем
соответствующих
правительственных
министерств,
что включает
разделение
политических
и административных
функций,
более
деловой подход
к
окупаемости
и контролю
расходов
(включая
стратегии капзатрат
и суммы
вознаграждения
персонала на
рыночной
основе), а
также
потенциальные
преимущества
от лучшего
координирования
политики в
разных
областях ИС .
Людские
ресурсы
Число
членов
персонала по
администрированию
ПНИС в
развивающихся
странах
колеблется в
очень
широких
пределах от
одного чиновника-непрофессионала в
министерстве
торговли и
промышленности
Эритреи до
более 800
человек в
трех
правительственных
учреждениях
Индии. Для
удовлетворения
минимальных
административных
стандартов
ТРИПС необходимо
иметь
ведомство,
работающее с
низкими
объемами
заявок по
ПНИС, в
котором,
скорее всего,
должно
работать
около 10
профессионалов
и
аналогичное
число
административных
сотрудников.
Следует
ожидать, что
со временем,
по мере
увеличения
объемов
заявок ПНИС,
потребность
в расширении
штата
возрастет.
Почти
во всех
развивающихся
странах не хватает
профессиональных
сотрудников
в национальных
системах
администрирования
ИС. В НРС и
малых
низкодоходных
развивающихся
странах не
хватает
технических
и правовых
экспертов.
Там, где есть
правовые
эксперты,
среди них не
хватает
специалистов
по ПНИС. В
более развитых
и крупных
развивающихся
странах существует,
в целом,
больше
экспертов-юристов
по ИС, в
особенности
в области
торговых знаков.
Врезка 7.2
Численность
персонала
ведомств ИС в
семи
развивающихся
странах
Индия: В
патентном
бюро
работают
около 300
человек при
наличии 530
утвержденных
должностей
(включая 40
патентных
экспертов
при 190
утвержденных
должностях).
В отделе
регистрации
торговых
знаков
работают 259
человек при
наличии 282
должностей, а
в отделе
защиты авторских
прав 12
человек, из
которых 9 - профессиональные
сотрудники.
Ямайка: В
недавно
созданном
ведомстве по
интеллектуальной
собственности
при
министерстве
промышленности,
торговли и
технологии
есть 51 должность,
из них
сегодня
заполнены
лишь около половины.
Кения:
Институт
интеллектуальной
собственности
имеет 97
должностей, 26
профессиональных
сотрудников
и 71 членов
административного
персонала.
Сент-Люсия:
Отдел
регистрации
компаний и
интеллектуальной
собственности
при
генеральном
прокуроре
имеет 9
должностей,
из которых
одна в настоящее
время не
заполнена.
Тринидад и
Тобаго:
Ведомство по
интеллектуальной
собственности
в настоящее
время имеет 23 должности,
из которых 6
не заполнены.
Чтобы
справиться с нагрузкой,
было предложeно
реорганизовать
структуру и
довести число
должностей
до 54.
Танзания: В
отделе
интеллектуальной
собственности
при
агентстве
деловой
регистрации
и
лицензирования
работают 20
человек (11
профессиональных
сотрудников
и 9 членов административного
персонала).
Вьетнам: В
Национальном
ведомстве по
индустриальной
собственности
работают 136
человек (87 профессиональных
сотрудников
и 49 членов
административного
персонала), в
ведомстве
защиты авторских
прав - 22
человека.
Источник: Leesti, M. & Pengelly, T. (2002) Institutional Issues for Developing Countries in Intellectual Property Policymaking, Administration and
Enforcement, Commission Background Paper, стр. 27
Информационные
тeхнологии
Информационные
тeхнологии
(ИТ) являются
сегодня
критически важным
элементом
эффективного
администрирования
ИС. Они дают
возможность
легкого
доступа к
большому
количеству
информации в
области
политики ИС,
к он-лайновым
патентным
базам данных
и
библиотекам
таких
организаций,
как ВОИС, а
также крупных
патентных
ведомств.
Таким
образом, они
являются
важным
определителем
организационного
потенциала.
Несмотря на
то, что минимальные
оргтехнические
требования
для небольших
ведомств ИС
сравнительно
невелики и
необходимое
программное
обеспечение
общедоступно,
степень
автоматизации
и интернетной
связи все еще
до удивления
низка[386].
Хотя
некоторые
более
крупные и высокодоходные
развивающиеся
страны имеют полностью
автоматизированные
системы поиска
и работы с
заявками, в
большом
числе стран
все еще
используют системы
канцелярского
ведения дел
вручную на
бумаге. Это
не только
мешает
эффективности
работы с
заявками, но
и сильно
усложняет
сбор важных
статистических
данных и управленческой
информации.
СИСТЕМА
РАССМОТРЕНИЯ
И АНАЛИЗА В
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
СИСТЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ.
ПОРЯДОК
СОТРУДНИЧЕСТВА
Администрирование
прав на
индустриальную
собственность
связано с
получением
заявок,
формальным
рассмотрением
(если есть необходимость),
предоставлением
прав или регистрацией
ПНИС, публикацией
и процессом
анализа
возможных
возражений.
Поскольку
некоторые
ПНИС истекают
по
прошествии
определенного
периода
времени,
необходимо
осуществлять
также
процедуру
возобновления
и сбора документов.
Уровень
администрирования
соответствующими
органами
защиты
авторских и
связанных с
ними прав,
однако,
минимален,
поскольку
такие права автоматические
и
возобновления
не требуют.
Самой
сложной
задачей
является
глубокое экспертное
рассмотрение
патентных
заявок, когда
проверяют не
только
новизну
изобретения,
изобретательный
шаг и
промышленное
приложение,
но также и то,
что
заявитель
удовлетворил
требованиям
раскрытия.
Некоторые
патентные
заявки
сегодня
подают с
тысячестраничными
описаниями и
техническими
данными в
широком
диапазоне
технологических
областей. Их
экспертное
рассмотрение
требует профессиональной
технической
компетенции
и доступа к
международной
патентной
информации
компьютерных
баз данных.
Такой организационный
потенциал (с
немногими
исключениями)
намного
выходит за
рамки
возможностей
большинства
организаций
по
администрированию
ПНИС в
развивающихся
странах.
Очень
немногие развивающиеся
страны в
состоянии
глубоко
анализировать
широкий
диапазон
технологий.
Одним
из путей
решения этой
проблемы в
развивающихся
странах
является
регистрационная
система, при
которой
патенты
предоставляют
без
экспертного
рассмотрения,
в рамках простой
процедуры
проверки
соблюдения
законодательных
формальностей.
Это намного снижает
затраты на
патентные
ведомства и необходимые
людские
ресурсы. Но
отсутствие
регистрационного
фильтра
может
привести к
практике патентных
злоупотреблений.
В
предположении
презумпции
действительности
патента, бремя
доказательства
его
недействительности
ложится на
общество или
заинтересованного
конкурента.
Такое бремя
может оказаться
весьма нелегким.
Кроме того,
создание
местной
системы рассмотрения,
даже при
ограниченных
средствах,
развивает
способность
составлять и
читать
патентную
документацию
и использовать
ее в качестве
источника
информации.
Высокая
текучесть
персонала
патентных бюро
и ведомств
зачастую
приводит к
переходу
таких кадров
в частный
сектор и
научно-исследовательские
учреждения.
Региональное
и
международное
сотрудничество
Многие
развивающиеся
страны
решили, что для
снижения
затрат и
роста
эффективности
при
администрировании
ПНИС им
необходимо
региональное
и/или международное
сотрудничество.
В частности,
по патентам
многие
страны в той
или иной
степени
полагаются
на ЕПВ и
патентные
ведомства
США и Японии,
которые
осуществляют
большую
часть
экспертизы
большинства
патентных
заявок в
мире. На
практике,
для
развивающихся
стран
открыты три
основных
варианта регионального
и
международного
сотрудничества.
Договор о
патентном
сотрудничестве
Первой
возможностью
здесь
является
членство ДПС
и Мадридской
системы.
Членство в системе
ДПС позволяет
национальным
патентным
ведомствам
до минимума
свести
работу
патентного
поиска,
рассмотрения
и публикации.
Это также
позволяет
местным
заявителям
при сравнительно
низких
затратах
(жители
развивающихся
стран также
имеют 75%-ную
скидку в отношении
всех сборов
ДПС) подавать
заявки на
международную
патентную
защиту во
всех
странах-членах
ДПС. Членство
Мадридской
системы дает
аналогичные
преимущества
при администрировании
торговых
знаков[387].
Некоторые
страны могут
решить
применять у
себя лишь Часть I ДПС (Международные заявки
и поиск), не применяя
Части
II
(Международное
предварительное
рассмотрение),
если считают,
что
рассмотрение
иностранным
патентным
ведомством
приведет к установлению
стандартов и
критериев,
существенно
отличающихся
от тех, которые
употребляются
у них в
стране,
особенно в
таких
критически
важных
областях, как
фармацевтические
изделия и
биотехнология.
Подряды
Второй
вариант
подрядить
какое-то
национальное
или
международное
патентное
ведомство
или частную
организацию
на администрирование
патентования.
Например, ЕПВ
предлагает
такую форму
обслуживания
по поиску и
рассмотрению
патентов для
некоторых
восточноевропейских
стран.
Аналогичная
система
предлагается
в развивающихся
странах, хотя
пока еще
таким
предложением
не
воспользовалась
ни одна
страна. При
поиске и
рассмотрении
отдельных
заявок
развивающиеся
страны также
могут
обратиться
за помощью к
патентной
информационной
службе ВОИС
(ПИСВ)[388].
При
техническом
анализе
патентных
заявок можно
также
воспользоваться
экспертными
знаниями сотрудников
местных
университетов,
если таковые
имеются. Так,
например
обстоит дело
в Чили. Точно
так же, в
Бразилии
закон
обязывает
министерство
здравоохранения
помогать
Институту
индустриальной
собственности
(ИИС) при
рассмотрении
патентов на
фармацевтические
изделия.
Региональные
организации
Третьим
вариантом
является
членство какой-то
региональной
системы
индустриальной
собственности.
В настоящее
время в развивающихся
странах
существуют
четыре региональные
организации
индустриальной
собственности. В Восточной
Европе и
Центральной
Азии это Евразийское
патентное
бюро, в
которое
входят девять
стран. В
арабском
регионе
патентное
ведомство
Совета по
сотрудничеству
стран
Персидского
залива
включает
шесть стран.
В
африканском
регионе есть
две региональные
организации
индустриальной
собственности
- OAPI и ARIPO, в которых,
соответственно,
по 16 и 15
стран-членов.
Кроме того,
шесть стран
Андского пакта
разработали
общее
законодательство
по ИС (хотя
администрирование
все еще осуществляется
национальными
правительствами).
Внедряются
также
инициативы в
странах
Карибского
бассейна и
юго-восточной
Азии. В
настоящее
время нет
региональных
организаций
администрирования
индустриальной
собственности
в Латинской
Америке, Карибском
и
Тихоокеанском
бассейнах, в
южной и юго-восточной
Азии.
Большинство
НРС (27 из 49) в
настоящее
время не
являются
членами региональных
организаций
ИС.
Региональное
сотрудничество
дает развивающимся
странам
определенные
преимущества,
но оно, в
основном,
сосредоточено
на администрировании
ПНИС. При
этом,
национальные
учреждения
все еще должны
осуществлять
такие важные
функции, как
разработка
политики,
участие в
выработке
международных
правил,
правоприменение
и
регулирование
ПНИС.
Региональные
организации,
следовательно,
могут
дополнять, не
заменяя,
эффективную
национальную
инфраструктуру
ИС.
Регионально-международное
сотрудничество
связано для
развивающихся
стран также и
с рядом
возможных
недостатков.
Во-первых, страны-члены
региональной
системы
зависят от ее
структуры и
заложенной в
этой структуре
гибкости,
призванной
обслуживать
национальные
интересы
стран-участниц,
что может
затруднить
для
конкретных
развивающихся
стран
внедрение у
себя
«скроенного
по мерке»
режима ИС (к
примеру,
режима с
разными условиями
и уровнем
защиты в
определенных
технологических
областях).
Например,
если в недавно
пересмотренное
соглашение
Бангуи не будут
введены
дополнительные
изменения, то
НРС,
являющиеся
странами-членами
OAPI, не
смогут
воспользоваться
преимуществом
продленного
переходного
периода по
ТРИПС или
дальнейшим
продлением
положений о
защите
фармацевтических
изделий,
предоставленных
им Декларацией,
принятой в
Дохе. Это,
однако, не относится
к НРС,
странам-членам
системы ARIPO, так как
последним
предоставлена
гибкость в
разработке
своего
патентного
законодательства
и практики[389].
Во-вторых, в
развивающихся
странах-членах
региональных
и
международных
патентных систем
могут
возникнуть
трудности с
применением
эффективной
системы
оспаривания
действительности
патентов. И,
наконец, расчет
на
региональные
учреждения
может
затруднить
наращивание
(все еще)
необходимых
экспертных
знаний и
организационных
возможностей
по ИС на
национальном
уровне
(например, по
разработке
политики,
правоприменению
и
регулированию).
Очевидно,
что
развивающимся
странам необходимо
взвесить все
выгоды и
издержки
региональных
и международных
систем,
подобрав
патентный
режим, наиболее
подходящий
для их
конкретных
обстоятельств.
В то же время,
сторонникам
регионального
и
международного
сотрудничества
по ИС стоило
бы
продемонстрировать,
как в случае
развивающихся
стран на
практике
могут быть преодолены
или смягчены
некоторые
потенциальные
недостатки.
Более
активное и
осведомленное
обсуждение
может помочь
развивающимся
странам
понять все
преимущества
и недостатки
регионального
и международного
сотрудничества
и выработать
правильные
решения.
ЗАТРАТЫ
И ДОХОДЫ
Затраты
на систему ИС
Создание
и
функционирование
инфраструктуры
ИС в
развивающихся
странах
связано с рядом
одноразовых
и текущих
затрат. К
одноразовым
затратам
относят
приобретение
ведомственного
помещения,
автоматизацию
(аппаратное и
программное
обеспечение)
и
ведомственное
оборудование;
затраты на
консультирование
(в отношении
политики в
области
научно-исследовательской
деятельности,
нового
законодательства,
стратегий
автоматизации,
управленческой
реорганизации
и т.д.), а также
на обучение
соответствующего
персонала
разработке
политических
и
законодательных
программ,
администрированию
и
правоприменению.
Текущие
затраты
включают
зарплаты и
льготы для
персонала,
оплату
коммунальных
услуг,
техобслуживание
информационно-технического
оборудования,
коммуникационные
услуги (включая
подготовку
годового
отчета и
интернетного
сайта),
командировочные
расходы на участие
в заседаниях
международных
и региональных
организаций,
ежегодные
взносы в ВОИС
и региональные
организации.
Очень
сложно
придти к
каким-то
общим выводам
относительно
объемов
таких затрат
в развивающихся
странах,
главным
образом, из-за
различного
количества
заявок ПНИС,
разных
местных
затрат на
персонал и
помещения, а
также ввиду
различной
политики
развивающихся
стран по
разработке инфраструктуры
ИС. Например,
в
развивающихся
странах, где
функционирует
система патентной
экспертизы
заявок,
затраты
будут намного
выше затрат в
системе
регистрации безо
всякого
рассмотрения.
В
обзоре
ЮНКТАД 1996 года
приведены
некоторые
оценки
организационных
затрат,
связанных с
соблюдением
требований
ТРИПС в
развивающихся
странах[390]. В
Чили
дополнительные
затраты на улучшение
инфраструктуры
ИС составили,
примерно 718000
долларов США,
а годовые
текущие затраты
- до 837000
долларов США.
В Египте
одноразовые
затраты
составили
около 800000
долларов США.
На годовое
обучение
дополнительно
уходит еще
около
миллиона
долларов США.
В Бангладеш
одноразовые
затраты, по
оценкам,
составили
лишь 250000
долларов США
(на
составление
законодательства),
а текущие
затраты -
кроме
обучения -
порядка 1.1
миллиона
долларов США
в год - на
юристов,
оборудование
и правоприменение.
По последним
оценкам
Всемирного
Банка, на
полное
улучшение
режима ПНИС в
развивающихся
странах,
включая
обучение,
может
потребоваться
от 1.5 до 2
миллионов
долларов США
капитальных
затрат, хотя
судя по
результатам
обзора
соответствующих
проектов
Всемирного
Банка в 1999 году
имеются определенные
указания на
то, что такие
затраты
могут
оказаться
намного выше[391]. Согласно
недавнему
отчету о
модификации
системы ИС на
Ямайке, одна
лишь
примерная
начальная
стоимость
автоматизации
составила около 300000
долларов США[392].
Оплата
расходов
В
большинстве
развивающихся
стран организации
по
администрированию
ПНИС взимают
разнообразные
сборы за
услуги по
работе с
заявками на
права по ИС и
за
возобновление
предоставленных
прав. В
некоторых
крупных
развивающихся
странах этот
доход
довольно значителен,
намного
превышая
текущие
затраты. В
Чили,
например,
доход от
сборов по
администрированию
прав
индустриальной
собственности
составил в 1995
году 6 млн
долларов США,
при текущих
затратах, за
тот же
период, в
один миллион
долларов США[393]. В
развитых
странах
ведомства ИС
часто бывают
прибыльными,
внося
значительные
суммы в
государственную
казну.
В
заказанном
нами
исследовании
приводятся,
как правило,
более
скромные, но
растущие
суммы
доходов
развивающихся
стран[394].
Например, в
Индии сборы
по ИС в 1999/2000
финансовом
году
составили 2.5
млн долларов
США, в Кении 629000
долларов США,
в Тринидаде -
230000 долларов
США, в
Танзании 214000
долларов США
, а на Ямайке 162000
долларов США.
Сборы по администрированию
торговых
знаков, как правило,
дают
наибольший
доход. По
сравнению с
ним доход от
патентов и
других ПНИС
гораздо ниже.
Это во многом
относится к
низкодоходным
развивающимся
странам.
Критически
важным
финансовым
вопросом, разумеется,
является
нужный
баланс
доходов и
расходов. Как
указал
Всемирный
Банк, развивающимся
странам,
по-видимому,
вряд ли стоит
направлять
на
администрирование
ПНИС
средства из
перегруженных
бюджетов
здравоохранения
и
образования.
Но именно с
таким риском
сталкиваются
некоторые
малые
государства
и
низкодоходные
развивающиеся
страны, где
еще в течение
многих лет
будет
наблюдаться
низкий
уровень заявок
по ПНИС. Наши собственные
исследования
по восьми
развивающимся
странам
показали, что
четыре из них
получают
достаточный доход
от сборов по
ИС,
покрывающий
административные
затраты, по
меньшей мере
в отсутствие
капитальных
затрат. В то
же время,
например, на Ямайке
ведомство ИС,
судя по
всему, в
настоящее
время работает
с убытком
(порядка 120000
долларов США
в 1999/2000
финансовом
году) и
нуждается в
субсидиях со
стороны
ямайского
налогоплательщика,
в других
рассмотренных
нами трех
странах не
было
достаточных
данных для каких-то
определенных
выводов[395].
Большинству
развивающихся
стран, наверное,
нужно будет
создавать
программы
поэтапных
капитальных
инвестиций в
ПНИС, с
установлением
уровня
сборов так,
чтобы полностью
окупить все
финансовые
затраты системы
ИС. Это
приводит к
необходимости
строгого
финансового
контроля,
управления и
регулярного
пересмотра
уровня
сборов.
Изученные
нами факты говорят
о том, что так
обстоит дело
не во всех развивающихся
странах -
например, в
Уганде патентные
сборы в
последний
раз пересматривались
лишь в 1993 году.
Поскольку
высокие
сборы могут
помешать некоторым
заявителям
ПНИС, в
ряде стран
решили пойти
на
многоуровневую
систему
сборов,
снизив сборы
с
бесприбыльных
организаций,
отдельных
лиц и малых
коммерческих
организаций,
где число
сотрудников
или уровень
товарооборота
ниже определенных
пороговых
значений.
Это, по-видимому,
очень
разумная
политика
покрытия
расходов,
обеспечивающая
средства для развития
национальной
инфраструктуры
ИС и
улучшения
обслуживания,
без
дополнительной
нагрузки на общественные
финансы.
Может
показаться привлекательной
политика
взимания
более высоких
сборов с
заявителей
из развитых стран,
но это не
будет
соответствовать
принципам
Парижской
конвенции и
ТРИПС. Однако
ввиду того,
что
подавляющее
большинство
патентных заявок
в
большинстве
развивающихся
стран поступает
из-за
границы,
можно
получить сравнимый
доход и на
основе
многоуровневой
системы.
В
некоторых
странах
более
эффективное
администрирование
ПНИС, с
помощью
автоматизации
и
регионального
или
международного
сотрудничества,
может, со
временем,
привести к
более
высоким
объемам
заявок и
патентов, за
которые
можно будет
взимать
соответствующие
сборы.
Частичного
решения
проблемы,
разумеется,
можно
добиться за
счет технической
и финансовой
помощи
спонсоров. Но
такая помощь
для
развивающихся
стран не
панацея она
никогда не
гарантирована,
выделяемые
средства
ограничены, и
у спонсоров
могут появиться
новые
приоритеты.
Эта помощь, в
основном,
предоставляется
лишь на
одноразовые
инвестиции, а
не на
финансирование
текущего
бюджетного
дефицита.
Развивающиемся
странам должны
стремиться надо
постараться оокупить
свои затраты
на
модификацию
и содержание
структуры ИС
путем сборов
с пользователей
системы. Они
также должны
рассмотреть
возможность
создания
многоуровневой
системы сборов
при
регистрации
ПНИС. Уровень
сборов для
пользователей
необходимо
регулярно
пересматривать,
следя за тем,
чтобы тот полностью
покрывал
администрирование
системы.
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
Правоприменение
в
развивающихся
странах
ПНИС
представляют
для правообладателей
ценность
лишь при
соответствующем
правоприменении,
нуждающемся
в эффективной
правовой
системе.
Правовая система,
в то же время,
должна быть в
состоянии
отменять
недействительные
права на ИС, например,
патенты,
предоставленные
несмотря на
существование
соответствующих
приоритетных
работ. В
ТРИПС
приводятся
подробные
минимальные
требования
по
правоприменению
ПНИС. Во
многих
развивающихся
странах,
особенно
низкодоходных,
соблюдение
таких положений
ТРИПС
представляет
собой
значительные
организационные
трудности
для
юридической
системы, процедур
на основе
гражданского
и уголовного
кодексов и
для
соответствующих
властей.
Кроме того,
укрепление
правоприметельных
мер может
оказаться
спорным политическим
вопросом,
если это, в
частности, приводит
к росту цен
для бедных
потребителей,
снижению занятости
в нарушающих
ПНИС
отраслях или
даже в связи
с налоговым
доходом за
счет таких отраслей.
Во
многих
развивающихся
странах
почти не существует
специализированных
отраслей
коммерческого
законодательства,
относящихся
к ИС. В таких
условиях
администрирование
законов по ИС
в судах,
вероятно,
представляет
особые
трудности,
поскольку от
судей и
законодателей
требуется
глубокое понимание
сложных
технических
и правовых
концепций.
Такое
положение
дел отражает возможную
опасность
«недоприменения»
или «сверхприменения»
прав на ИС в
развивающихся
странах.
По
оценкам
промышленных
объединений,
таких как
Альянс
программного
обеспечения
для бизнеса
и
Альянс
международной
интеллектуальной
собственности,
в развивающихся
странах
наблюдается
очень
высокий
уровень нарушений
ПНИС[396]. Сбор
фактов о
степени
нарушений
ПНИС в развивающихся
странах
проблематичен,
поскольку
зачастую нет
надежных
официальных
статистических
данных.
Однако, в
целом, признано,
что самая
высокая
степень
нарушений
ПНИС, в
большинстве
низкодоходных
стран,
касается
защиты
авторских
прав (контрафактные
копии
компьютерных
программ и музыкальных
кассет,
которые
легко
копировать) и
торговых
знаков, хотя
следует
отметить,
что, с точки
зрения
утерянного
дохода, употребление
контрафактных
копий
наносит
наиболее
существенный
ущерб в
развитых
странах[397].
Мы
согласны с
тем, что
системы
правоприменения
в
развивающихся
странах должны
эффективнее
бороться с
серьезными
нарушениями
ПНИС. Это
важно с точки
зрения защиты
поощрения правообладателей
ИС. Но важно
также, чтобы развивающиеся
страны
создавали и
развивали
учреждения,
способные
делать это на
более
конкурентной
и
уравновешенной
основе, то
есть
правоприменительные
учреждения
развивающихся
стран должны
быть достаточно
энергичными
и
компетентными
для принятия
решений о
том,
действительны
или
недействительны
те или иные
права на ИС.
Они должны не
позволять
потенциально
злонамеренного
использования
по причине
ограничительных
деловых
методов,
таких как
«стратегические
тяжбы». Например,
по мере того,
как на
развивающиеся
страны
оказывают
растущее
давление,
требуя упрощения
процедур
судебных
запретов,
возникает
риск
злоупотребления
со стороны правообладателей
ИС в целях
подавления
законной
конкуренции.
С
укреплением
в развивающихся
странах - как
того требует
ТРИПС -
правоприменительных
систем ИС,
совершенно
необходимо
будет также
сделать
должный упор
на защите
общественных
интересов и
разработке справедливых
процедур для
обеих
спорящих сторон.
Эффективность
правоприменения
ПНИС, обычно,
возрастает с
ростом
уровня
доходов, так что
организационные
слабости в
этой области,
вероятно,
больше всего
проявляются
в бедных
странах.
Например, в
Танзании и
Уганде еще не
было случаев
судебного
преследования
за нарушения
ПНИС, в то
время, как в
Кении в
последние
годы
таможенные
власти совершили
50 задержаний
контрафактных
изделий, а в
судах
слушалось 20
уголовных
дел, касающихся
ПНИС[398].
Некоторые
развивающиеся
страны, такие
как Таиланд и
Китай, для
улучшения
системы правоприменения
пошли еще
дальше, создав
особые суды
по вопросам
ПНИС, хотя ТРИПС,
формально, не
требует
таких мер.
Вероятно,
более
привлекательным
для
развивающихся
стран
подходом
является
создание (или
укрепление)
коммерческих
судов,
которые могут,
среди
прочего,
слушать дела,
касающиеся
ПНИС,
улучшив, тем
самым, доступ
всего делового
сектора к
юридической
системе. В
любом случае,
большинству
развивающихся
стран нужны
обширные
программы
обучения
судебных
работников и
сотрудников
других правоприменительных
организаций
вопросам ИС[399].
Так называемая
«частная»
природа прав
на ИС означает,
что сторонам
лучше всего
решать свои споры
вне суда или
в
соответствии
с гражданским
законодательством.
Поскольку
государственное
правоприменение
ПНИС требует
крупных
средств, то,
по этим
причинам, развивающимся
странам
необходимо
вводить у
себя законодательства
ПНИС,
подчеркивающие
правоприменение
через
гражданскую,
а не уголовную
систему
правосудия.
Это снизит
правоприменительную
нагрузку на
правительство
в случаях
крупномасштабного
контрафактного
копирования,
хотя
государственным
правоприменительным
органам все
равно
необходимо
будет вмешиваться
в этот
процесс. При
этом, однако,
можно
отметить, что
индустриально-промышленные
круги
оказывают на
развивающиеся
страны нажим,
пытаясь
заставить их
использовать
государственные
правоприменительные
режимы
наказания
нарушителей.
Такому
давлению нужно
сопротивляться
- инициатива
и правоприменительные
затраты по
осуществлению
частных прав
должны быть
возложены на
самих
правообладателей.
Развивающиеся
страны
должны предусмотреть
в своем законодательстве
и процедурах
ИС развивающихся
стран должно
- максимально
возможное
наказание за
неисполнение
положений
ПНИС, и применять
это
наказание скорее
административными
методами или
методами
гражданского
законодательства,
чем уголовного
преследования.
Процедуры
должны быть
справедливыми,
равноправными
и такими,
чтобы
правообладатели
на ИС не
могли
пользоваться
судебными запретами
для
блокирования
нежелательной
для них, но
законной
конкуренции.
Государственные
фонды и
спонсорские
программы
должны, в
основном,
использоваться
для
улучшения
правоприменения
ИС в рамках
общего
укрепления
правовой и юридической
систем.
Правоприменение
в развитых
странах
В
настоящем
разделе мы до
сих пор
занимались
исключительно
вопросами
правоприменения
ИС в
развивающихся
странах, что
отражает
весомость
этой темы в
просмотренных
нами статьях
и трудах. В
противоположность
этому, очень
мало
обсуждается
или признается
проблема, с
которой
сталкиваются
правообладатели
ИС из
развивающихся
стран при
правоприменении
своих прав в
таких,
например, странах,
как
Великобритания,
США или
Япония, где
судебные
затраты
могут быть
очень значительными.
Это означает,
что фирмы
развивающихся
стран,
конкурирующие
в развитых странах,
уязвимы в них
в отношении
«стратегических
тяжб»,
касающихся
прав на ИС.
Связанные с
этим
проблемы,
аналогичные
приведенному
ранее случаю
с куркумой
(см. врезку 4.2 в
Разделе 4),
возникают,
когда третьи
страны предоставляют
недействительные
права на ИС
на известные,
в
развивающихся
странах, знания.
Развитые
страны
обязаны
продумать вопрос
о том, как в
случае ИС
улучшить
доступ
развивающихся
стран к своим
системам правосудия.
Развитые
страны
должны
выработать
пути содействия
изобретателям
из
развивающихся
стран, обеспечив
им
эффективный
доступ с
получением
ими
эффективного
доступа к
своим
системам
интеллектуальной
собственности.
Это может,
например,
включать снижение
уровня оплаты,
взимаемой с
изобретателей
из бедных
стран и тех,
кто работает
на
бесприбыльной
основе,
общественные
системы pro bono,
меры по
компенсации
издержек за
счет проигравшей
судебный
спор стороны,
и включение
соответствующих затрат
по внедрению
ИС в
программы
технической
помощи.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
Регулирование
прав на ИС,
особенно в отношении
вопросов,
представляющих общественный
интерес
(например, в
случае принудительного
лицензирования)
или при контроле
над
антиконкурентной
практикой правообладателей,
должно стать
приоритетным
моментом
разработки
общественной
политики и
организационной
инфраструктуры.
В дополнение
к разработке
соответствующих
нормативных
рамок, важной
частью
эффективного
регулирования
является
периодический
пересмотр
всех аспектов
национального
режима ИС, с
проверкой их
соответствия
и
адекватности.
Доводы
в пользу создания
таких
нормативных
систем и
инструментов
ПНИС в
развивающихся
странах отражены
во многих
документах[400]. При этом,
однако,
часто,
вероятно, забывают,
что развитые
страны ввели
у себя сильную
защиту ИС в
контексте
конкурентных
и других
режимов
регулирования,
рассчитанных на
защиту общественных
интересов. В
США , но также
и в других
развитых
странах
конкурентное
регулирование
прав на ИС и
контроль
ограничительной
деловой
практики
являются
ключевыми характеристиками
антитрестового
законодательства.
Причем, все
эти
положения
регулярно
применяются
судами,
надзорными
организациями
и прочими
правительственными
органами по
соблюдению
конкуренции.
С
организационной
точки зрения,
однако, эффективное
регулирование
прав ИС с
доведением
до
стандартов,
принятых в развитых
странах,
по-видимому
представляет
собой
трудную
задачу для
политических
деятелей и
сотрудников
административных
и
правоприменительных
органов
развивающихся
стран. Это
подтверждается
и нашим собственным
обзором
восьми
развивающихся
стран,
подтверждающим,
что в рамках
законодательства
о конкуренции
и по вопросам
ИС в них не
было подано в
суд ни одного
дела[401]. Как
отметил
недавно один
комментатор:
«
в
большинстве
развивающихся
стран механизмы
контроля
ограничительной
деловой практики
и
злоупотребления
правами ИС
слабы или
вообще
отсутствуют.
Развивающиеся
страны, в
целом, также
не подготовлены
или не в
состоянии
нейтрализовать
воздействие
роста цен,
возникшего в
результате
введения или
укрепления
прав на ИС и
доступ к
защищенной
продукции,
особенно
среди бедных
слоев
населения»[402].
Лишь
около 50
развивающихся
стран и стран
с переходной
экономикой
приняли пока
у себя особое
законодательство
по
конкуренции.
Ряд
развивающихся
стран,
однако,
включая НРС,
такие как
Уганда,
сейчас уже
разрабатывают
такое законодательство.
В других
развивающихся
странах
положения,
относящиеся
к
регулированию
прав ИС,
иногда
включают в
существующие
законы по ИС.
Существование
в
развивающихся
странах
законодательства
по вопросам конкуренции
еще не
означает, что
существуют
компетентные
учреждения,
способные
эффективно
заниматься
сложными
вопросами ИС.
Например,
умение и
способность
администрировать
принудительное
лицензирование,
определяя,
скажем, что
представляют
собой «разумные
коммерческие
условия» и
что такое
«экономическая
ценность
разрешения»,
требуют
довольно
высокой
квалификации,
могущей
намного выходить
за рамки
существующих
организационных
возможностей
многих
развивающихся
стран. Это
подтверждается
и тем, что
развивающиеся
страны почти
никогда не
используют
принудительные
лицензии
(хотя
зачастую
достаточно
одной лишь
угрозы
такого
лицензирования
или, наоборот,
осознания,
что
национальные
власти не
желают
пользоваться
таким
орудием).
Здесь
развивающиеся
страны
сталкиваются
с явной
дилеммой. С
одной
стороны,
создание
эффективных
нормативных
рамок,
включая
конкурентную
политику,
является
важным
взаимодополняющим
шагом по
введению
более сильной
защиты ИС. С
другой
стороны, хоть
крупные развивающиеся
страны
(такие,
например, как
Индия) и
стараются
укрепить в
этой области организационные
возможности,
для многих
стран это,
вероятно, так
же сложно,
как и
создание режима
ПНИС. В
развитых
странах
широко придерживаются
той точки
зрения, что
система ИС
может
правильно
функционировать
лишь совместно
с
эффективной
конкурентной
политикой. С
этим связан и
вопрос о том,
представляет
ли, сама по
себе, система
ИС ценность
для развивающихся
стран.
Простого
решения этой
дилеммы нет.
В случае НРС
существует
много
доводов в
пользу продления
переходного
периода до
введения режима
ПНИС. Этот
вопрос
обсуждается
в Разделе 8.
Для других
развивающихся
стран доводы
в пользу
развития конкурентного
режима
основаны не
только на связи
с ПНИС. Как
развитые, так
и
развивающиеся
страны
усвоили, что
широкомасштабная
приватизация
государственных
отраслей,
проходившая
в течение
последних
двух
десятилетий,
и рост
концентрации
на многих
рынках являются
еще одним
весомым
доводом в
пользу эффективной
конкурентной
политики. Мы,
следовательно,
должны
придти к
заключению, что
политике
укрепления
конкуренции
в развивающихся
странах
необходимо
придать
более высокую
приоритетность.
Развитые
страны и
международные
учреждения,
предоставляющие
помощь в деле
разработки
режимов
ПНИС,
должны
оказывать
свое
содействие в
комплексе с
разработкой
соответствующих
политических
программ
поощрения
конкуренции
и создания
соответствующих
учреждений.
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ И
СОЗДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Текущие
программы
Согласно
статье 67
ТРИПС,
развитые
страны-члены
ВТО обязаны
оказывать
развивающимся
странам
техническую
и финансовую
помощь по
способствованию
внедрению
этого
соглашения.
Большинство
развитых
стран в той
или иной
форме
предоставляют
развивающимся
странам
техническую
помощь по ИС.
Это делается
на
двусторонней
(в основном,
между
национальными
патентными
ведомствами)
либо
многосторонней
основе. Среди
основных
международных
организаций,
оказывающих
развивающимся
странам
техническую
помощь по ИС,
можно
назвать ВОИС,
ЕПВ, Всемирный
Банк, ПРООН и ЮНКТАД.
Ряд неправительственных
организаций
также
помогает
развивающимся
странам в
области ИС,
предоставляя
техническую
помощь и
содействуя
научно-исследовательской
деятельности.
Техническая
помощь
спонсорских
организаций
попадает в
следующие
широкие
категории:
общее и
спецобучение;
юридические
консультации
и помощь в
подготовке
законодательства;
содействие
модернизации
офисов
администрирования
ПНИС и совместных
управленческих
систем;
доступ к
патентному
информационному
обслуживанию
(включая
патентный
поиск и
анализ); обмен
информацией
среди
законодателей
и судей; а
также поощрение
местных
инноваций и
творчества.
Поскольку
большинство
спонсоров не
имеют местных
филиалов,
они, обычно,
откомандировывают
на краткие
сроки
советников и
консультантов,
которые, как
правило,
планируют, осуществляют
и
контролируют
программы в
развивающихся
странах.
Большой
упор
делается на
обучение и
людские
ресурсы,
важным
примером
этого
является
Всемирная
академия
ВОИС,
созданная в
Женеве в 1998
году. В
последнее
время важной
стала также и
помощь в деле
автоматизации
администрирования
ПНИС в
развивающихся
странах и
региональных
организациях
ИС. В
частности,
необходимо
отметить
программу
ВОИС «Net»,
которую ВОИС
будет
внедрять в
течение следующих
5 лет. Она
обойдется,
примерно, в 20
млн долларов
США. Эта
программа
обеспечит
он-лайновое
обслуживание
и интернетную
связь,
национальные
интернетные
сайты ИС,
безопасную
электронную
почту и обмен
данными по ИС
среди 154
ведомств ИС
по всему
миру. Ясно,
что
программа «Net» может
оказаться
очень
полезной,
хотя еще рано
судить о
степени
приносимой
ею пользы.
Оценка
эффекта
технической
помощи
Ввиду
отсутствия,
на данный
момент,
соответствующих
оценок,
трудно
авторитетно
судить о
воздействии
и
эффективности
технического
сотрудничества
со
спонсорскими
организациями
в тех или
иных странах
или регионах.
Для эффективности
затрат и
оказываемого
содействия важно,
однако, чтобы
спонсоры, по
отдельности
и совместно,
осуществляли
такую
текущую оценку
в рамках
программ
управленческого
цикла. Нас
также
поразило
малое число
публикаций с
описанием
оптимальной
практики
технической
помощи по ИС,
что особенно
удивляет, если
сравнить эту
область с
такими
сферами, как
окружающая
среда и
торговля, где
спонсорские
организации
и
развивающиеся
страны совместно
разрабатывают
международные
согласованные
положения на
таких форумах,
как Комитет
помощи
развитию
ОЭСР.
Аналогичная
работа, с
упором на
техническую
помощь по ИС, также
может
оказаться
очень
полезной и ценной.
Ясно,
что за
последние 5-10
лет
достигнуты
значительные
успехи в
модернизации
инфраструктуры
ИС и кадровом
развитии
развивающихся
стран. Многие
специалисты
разных
профессий
прошли общее
и
специализированное
обучение по
вопросам ИС.
Это оказалось
особо важным
для
образовательной
и юридических
систем, дав
странам
возможность воспользоваться
собственными
системами ИС
и эффективно
участвовать
в
международных
переговорах
и
переговорах
с
поставщиками
иностранной
технологии.
Многие
развивающиеся
страны также
обновили
законодательство
по ИС и,
воспользовавшись
такими
механизмами
международного
сотрудничества,
как ДПС и
Мадридская
система,
существенно
повысили
эффективность
и уровень
обслуживания.
Больше всего
улучшений
произошло в
таких
регионах, как
Латинская
Америка и
Восточная
Европа, хотя
значительное
расширение
организационного
потенциала
произошло
также и в
других развивающихся
странах,
таких как
Китай,
Марокко,
Вьетнам, Тринидад
и Тобаго и
Индия.
В то же
время, многим
низкодоходным
странам,
особенно НРС,
все еще
предстоит
решить серьезные
задачи
развития
инфраструктуры
ИС, где ряд
важных общих
вопросов
финансирования,
разработки и
технического
сотрудничества
нуждаются в
срочном
решении.
Финансирование
дальнейшей
технической помощи
В
ближайшие
годы нужно
будет
обеспечить дополнительное
финансование
организационных
реформ и
соответствующего
организационного
потенциала
развивающихся
стран,
поскольку
многие
развивающиеся
страны
сталкиваются
с
трудностями
внедрения
положений
ТРИПС. Мы
считаем это
важным
требованием,
хотя
привести
здесь точные
суммы здесь
не
представляется
возможным.
Потребности
каждой
страны в
создании организационного
потенциала
оцениваются
в индивидуальном
порядке, но
для
примерной
оценки порядка
величин
разумной
отправной
точкой являются
вышеупомянутые
недавние
цифры Всемирного
Банка
порядка 1.5-2 млн
долларов США на
одну страну.
Такого рода
затраты
потребуются
для
всеобъемлющей
модификации
режима ПНИС. Здесь,
очевидно,
спонсорам и
развивающимся
странам
нужно
проделать
дополнительную
работу по
более точной
количественной
оценке
соответствующих
потребностей.
Сюда,
разумеется,
относится и
вопрос о том, где
найти такое
дополнительное
финансирование.
Как указывалось
выше в
настоящем
отчете,
большинство
развивающихся
стран имеют
очень низкий
уровень
разработки
собственных
ПНИС.
Техническая
помощь по
укреплению
защиты ИС,
при этом,
необычна тем,
что
существенная
часть непосредственных
выгод от
укрепления
защиты ИС
пойдет,
скорее всего,
иностранным
владельцам
ПНИС, в
основном, из
развитых
стран. Более
того, крайне
низкий
уровень
кадрового и
экономического
развития НРС
других низкодоходных
стран
означает, что
рост затрат
из бюджетов
помощи на
основы
здравоохранения
и
образование
бедных слоев
населения там
по праву
считаются
более
приоритетными.
Учитывая
все
вышеизложенное,
мы считаем, что
затраты на
модернизацию
национальных
инфраструктур
ИС в таких
странах
должны, несомненно,
покрываться
правообладателями
ИС. Такие
организации,
как ВОИС, ЕПВ
и
патентные
ведомства
некоторых
развитых
стран, фактически,
так и
поступают. Их
доходы, идущие
на программы
технической
помощи, поступают
за счет
сборов,
взимаемых с
правообладателей
ИС[403]. Точно
так же,
сравнительно
легко и на
равноправной
основе можно
получить и
дополнительное
финансирование
технической
помощи[404].
ВОИС,
Европейское
патентное
ведомство и развитые
страны
должны
существенно
расширить свои
программы
оказания
технической
помощи в
вопросах ИС.
Дополнительные
фонды могут быть
мобилизованыпридти
за
счет
незначительного повышения
сборов по
ПНИС,
например, в
рамках
Договора о
патентном
сотрудничестве,
а не за счет
строго
распределенных
напряженных
бюджетов
помощи., за счет
незначительного
роста
сборов по
ПНИС,
например, в
рамках
Договора о
патентном
сотрудничестве
(с его
международной
системой
патентного
поиска). Ввиду
особой
необходимости
развить режим
ИС и всю
организационную
инфраструктуру
правоприменения
и
регулирования,
необходимо направлять
больше
спонсорской
технической
помощи в направлять
НРС.
Обеспечение
эффективного
предоставления
технической
помощи
Из
обсуждений с
соответствующими
сторонами у
нас
сложилось
впечатление,
что предоставление
помощи и
координацию
в области ИС
можно
существенно
улучшить.
Различные учреждения
расходуют
большие
суммы денег,
но
результаты
несоразмерны
усилиям. Нужно
улучшить
разработку и
реализацию
программ
предоставления
развивающимся
странам
технической
помощи по ИС.
Она должна быть
лучше интегрирована
в рамках
общей
стратегии
национального
развития той
или иной
страны. Слишком
часто такую
техническую
помощь планируют
и
предоставляют
в
изолированном
виде, вне
связи с
другими
программами
развития. К
примеру,
такие
специалированные
организации, как
ВОИС, готовят
для разных
стран новое
законодательство
по ИС, но
организационной
инфраструктуры
для
администрирования
нового
режима на
месте может
не оказаться
из-за того,
что в проекте
не
участвовало
более
крупное
общее
агентство
развития. С
другой стороны,
при
осуществлении
финансируемых
Всемирным
Банком
проектов
модификации
инфраструктуры
ИС в
Бразилии,
Индонезии и
Мексике
решили
прибегнуть к
комплексному
подходу. В
этих случаях
модификация
режима ИС
была лишь
одной из
составляющих
более
широкой программы
политических
реформ и
развития потенциала,
направленной
на
стимулирование
затрат на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность
и улучшение
конкурентоспособности.
Многие
спонсоры и
страны,
получающие
от них
помощь, также
не всегда
координируют
свою
дятельность.
Это может
привести к
ненужному
дублированию
работы и даже
к противоречивым
советам. Во
Вьетнаме,
например,
восемь
разных
спонсорских организаций
помогали
стране с 1996 по 2001
годы[405].
Большинство
проблем
связано с
тем, что главные
спонсоры в
области ИС
(например,
ВОИС и
ЕПВ) не
имеют в
стране
постоянного
персонала,
что
препятствует
координации
и планированию
помощи. В
этом
отношении
спонсорам,
возможно,
имеет смысл
попробовать,
в испытательном
порядке,
иметь в
стране или
регионе своих
менеджеров-координаторов,
координирующих
на местах
техническую
помощь по ИС
в развивающихся
странах.
Нам
кажется, что
Интегрированная
программа
торговой
технической
помощи НРС (Интегрированная
программа)
представляет
собой важную
возможность
улучшения
спонсорской
координации
и
интегрирования
программ ИС с
национальными
стратегиями
развития. Эта
инициатива
объединяет многосторонних
и
двусторонних
спонсоров (в
том числе
Всемирный
Банк, ПРООН,
ЮНКТАД и ВТО,
но не ВОИС
или ЕПВ),
осуществляющих
совместную оценку
потребностей
и разработку
программ
торгового
развития и
торговых
реформ. Поскольку
в НРС
Интегрированная
программа
теоретически
уже включает
в себя поддержку
внедрения
ТРИПС, то она,
по-видимому,
является
подходящим
средством
углубления координации
работы
спонсоров в
вопросах
помощи по ИС.
С практической
точки зрения,
в качестве
первого шага,
ВОИС и ЕПВ
необходимо
формально присоединиться
к главным
спонсорам
Интегрированной
программы.
Техническая
помощь по
вопросам ИС
должна быть
организована
в соответствии
со
специфическими
запросами и приоритетами
конкретных
стран. Такая
помощь может
быть
включена в
Общие рамки
торгового
содействия
лучшему
совмещению
планов
национального
развития со
спонсорскими
программами
помощи.
Наконец,
чтобы
заниматься
этими новыми
задачами,
спонсорам и
развивающимся
странам
необходимо
найти новые,
более
эффективные
пути
совместной
работы. Нужно,
в частности,
лучше
использовать
существующие
организационные
механизмы
национального,
регионального
и
международного
уровня, необходимые
для
понимания
потребностей
развивающихся
стран в
создании
потенциала ИС,
обмена
информацией
по проектам
технической
помощи и
осуществления
совместного анализа
в разных
отраслях в
рамках
продолжающегося
анализа
передового
опыта.
Спонсорские
организации
должны
усилить
системы
наблюдения и
анализа
программ
сотрудничества
по ИС. В качестве
важного
первого шага
необходимо
основать
рабочую
группу с
участием своих
собственных
представителей
и представителей
развивающихся
стран,
которая бы
поручила группе
независимых
специалистов
произвести всеобъемлющую
оценку
воздействия
связанной с
ИС
технической
помощи
развивающимся
странам,
начиная с 1995
года.
В
следующем
разделе мы
вернемся к
вопросу о
необходимой
технической
помощи,
предоставляемой
международными
и
национальными
организациями.
Раздел 8
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
ВВЕДЕНИЕ
Наш
анализ
показывает,
что интересы
развивающихся
стран лучше
всего
удовлетворить
подбором
режима
интеллектуальной
собственности
в
соответствии
с конкретными
социально-экономическими
обстоятельствами
той или иной
страны.
Развивающиеся
страны
должны быть
свободны в
своих действиях
в той же
степени, в
которой
свободны развитые
страны,
которые в
настоящем - и
еще больше в
прошлом -
по-разному
применяют и применяли режим
ПНИС. Для
развивающихся
стран,
вероятно, это
еще важнее,
потому что ошибки
могут иметь
для них более
серьезные
последствия.
Решающим
фактором
здесь, однако,
является
вопрос об
увязке такой
цели со
сложной
международной
структурой
многосторонних,
региональных
и
двусторонних
правил и стандартов
ИС,
налагающих
значительные
ограничения
на свободу
той или иной
страны действовать
по своему
усмотрению
(См. Врезку 8.1 с
общим
обзором
положения в
этой сфере).
Этот
вопрос
возникает в
контексте не
только
существующих
норм, но и
будущего регулирования,
обсуждаемого
в настоящее
время. Как мы
видели в
Разделе 6,
дебаты по
вопросам
всеобъемлющей
международной
гармонизации
патентной
системы,
которые
ведутся
сегодня в
ВОИС, в
острой форме
затрагивают
проблему
защиты
интересов
развивающихся
стран в рамках
международной
системы. В
целом же, наши
выводы
возлагают на
международное
сообщество
ответственность
за
проведение анализа
того,
учитывают ли
механизмы
многосторонних
и
двусторонних переговоров
по
стандартам
интеллектуальной
собственности
интересы
развивающихся
стран и
бедных слоев
населения. Мы
считаем
существующие
организационные
рамки далеко
не
оптимальными,
полагая что
необходимо
гораздо
более чутко
относиться к
этим
аспектам.
Среди
центральных
вопросов,
которыми мы
займемся
ниже, будут
следующие:
·
Предоставляют
ли ключевые
международные
учреждения, в
частности
ВТО и
ВОИС, адекватные
консультации
и анализ,
основанные
на осознании
особых
потребностей
развивающихся
стран и
бедных слоев
населения?
·
Достаточно
ли развитые
страны
учитывают
воздействие
ПНИС на
развивающиеся
страны и, в частности,
на их бедные
слои
населения
при двусторонних
отношениях с
развивающимися
странами?
·
Сознают
ли сами
развивающиеся
страны, в чем
заключаются
их интересы,
и могут ли
они их
защитить в
ходе
двусторонних
и многосторонних
переговоров?
Чтобы
ответить на
эти вопросы,
нужно иметь представление
о
международной
организационной
структуре ИС,
о том, как
формулируются
правила на
этом уровне,
и как
соответствующие
учреждения
помогают
внедрять
такие
правила в
национальные
законодательства.
Врезка 8.1
Международная
организационная
структура ИС:
многосторонние,
региональные
и
двусторонние
правила
Организационная
структура
глобального режима
ПНИС
постоянно
усложняется
и включает
разнообразные
многосторонние
соглашения,
международные
организации,
региональные
конвенции и
двусторонние
договоренности.
Многосторонние
договора
Большинство
их
администрируются
ВОИС и делятся
на три вида:
i. Стандартозадающие
договора,
определяющие
основные
согласованные
стандарты
защиты. Сюда
входят
Парижская,
Бернская и
Римская
конвенции.
Вне рамок
ВОИС важными
договорами
этого типа
являются
Международная
конвенция по
защите новых
культур
растений
(УПОВ) и ТРИПС.
ii. Глобальные
договора по
системе
защиты,
определяющие
регистрацию
ПНИС более
чем в одной
стране. Сюда
входит
Договор о
патентном
сотрудничестве
(ДПС) и
Мадридское
соглашение
по
международной
регистрации
знаков.
iii. Классификационные
договора,
организующие
информацию
об
изобретениях,
торговых
знаках и
промышленном
дизайне в легкодоступные
упорядоченные
структуры. Одним
из примеров
этого
является
Страсбургское
соглашение
по
международной
патентной
классификации.
Среди
других
международных
соглашений по
вопросам
ПНИС -
Международный
договор по
генетическим
ресурсам
растений для
продовольствия
и сельского
хозяйства и
Конвенция о
биологическом
разнообразии.
Региональные
договора или
юридические
документы
Среди
примеров
таких
соглашений -
Европейская
патентная
конвенция,
Харарский
протокол по
патентам и
промышленному
дизайну в
рамках ARIPO, а
также Общий
режим
индустриальной
собственности
Андского
сообщества.
Региональные
торговые
соглашения
Региональные
торговые
соглашения,
обычно, имеют
разделы,
регулирующие
стандарты ИС.
К таким
соглашениям,
например,
относятся
Североамериканская
ассоциация
свободной
торговли,
планируемая
Зона
свободной
торговли
Америки и Соглашение
ЕС/ACP в
Котону.
Двусторонние
соглашения
Сюда входят
двусторонние
соглашения,
которые
среди прочих
вопросов
могут
покрывать и
аспекты ПНИС.
В качестве
недавнего
примера
можно
привести
Соглашение о
свободной торговле
между США и
Иорданией,
которое было
подписано в 2000
году.
Существует
множество
других
примеров (см.
Таблицу 8.1).
Источник:
ЮНКТАД/CTSD (2002)[406].
ЗАДАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ -
ВОИС И ВТО
Существует
несколько
международных
учреждений
по
установлению
стандартов
интеллектуальной
собственности. Среди них
ВОИС. Это
главное
международное
учреждение,
ответственное
за
организацию
переговоров
по договорам
ИС и их
администрированию.
После
включения
ТРИПС в
Уругвайских
раунд
переговоров,
интеллектуальная
собственность
также попала
в сферу ВТО,
наследника
ГАТТ, и
некоторые
утверждают,
что влияние
ВОИС после
этого уменьшилось.
Для
администрирования
соглашения
ТРИПС в ВТО
было создан
особый Совет
ТРИПС.
Секретариаты
ВОИС и ВТО
обслуживают
организации,
управляемые
их
странами-членами.
Национальные
правительства
определяют политику
и
результаты
переговоров. На
практике, как
и в любой
бюрократической
организации,
структура
управления
рассредоточена,
секретариат
и его
руководство
играют то
большую,то
меньшую роль
в
определении
важных проблем
и возможных
вариантов
решений. ВОИС и
ВТО также
реагируют на
ряд внешних
факторов
разной
значимости
за пределами
формальной
управляющей
структуры, в
том числе на
сигналы, поступающие
из
стран-членов
организации
и внешних
групп
давления,
включая
промышленные
круги,
индустриальные
объединения
и неправительственные
организации.
Правительства
и другие
организации
придают
особое
значение ВТО
как
учреждению,
задающему
обязательные
торговые
нормы и
правила. Это
связано с
широтой
охвата и
способностью
ВТО налагать
санкции,
способные
существенно
повлиять на
национальную
политику.
Именно по этой
причине
развитые
страны
предпочитают
ГАТТ/ВТО, а не
ВОИС, в
качестве
механизма
глобальной защиты
ИС через
ТРИПС. По той
же причине,
например,
промышленность,
правительства
и неправительственные
организации
так много
внимания
уделили
Декларации,
принятой в
Дохе, по
вопросам
ТРИПС и
охраны
здоровья. Значение
ВТО в
контексте
правил ИС
связано не столько
с ее особой
компетентностью
в вопросах
задания
международных
стандартов ИС
(хотя в этой
организации
и есть
подразделение
интеллектуальной
собственности
с высококвалифицированным
персоналом),
сколько с тем,
что этот
механизм
урегулирования
споров является
мощным
средством в
руках стран-членов
при
правоприменении
положений
ТРИПС и
обязательств
торговых
партнеров,
которым, в
случае
несогласия,
грозят
торговые санкции.
На сегодня
насчитывают
24 случая
урегулирования
ВТО споров,
касающихся
ТРИПС, причем
инициаторами
подавлящего
большинства
их были США и
ЕС[407].
По
сравнению с
ВТО, ВОИС
отличается более
глубоким
пониманием и
наличием большего
объема
экспертных
знаний в
области интеллектуальной
собственности.
Это, однако,
весьма
различные
организации
по следующим
двум
причинам.
Во-первых,
около 90% финансирования
ВОИС
поступает не
от правительств
стран-участниц
(как в ВТО и
других агентствах
ООН), а от
частного
сектора,
посредством
сборов,
уплачиваемых
заявителями патентов
ДПС, то есть,
фактически,
от патентообладателей[408].
Во-вторых, в
соответствии
со своим
уставом, ВОИС
занимается
исключительно
поощрением
ПНИС. В его
задачи и
функции не
входят цели
развития[409].
Как и
следовало
ожидать, ВОИС
истолковывает
свои задачи
(см. врезку 8.2)
как миссию
твердого
сторонника
усиления
защиты ИС в
развивающихся
странах. В
разнообразных
опубликованных
документах
ВОИС мало
внимания
уделяется
возможным
отрицательным
последствиям
такой защиты.
Права на ИС,
преимущественно,
представлены
исключительно
в
положительном
свете. Например,
как
утверждается
в
интернетной
публикации
на сайте ВОИС
под
заглавием
«Интеллектуальная
собственность
орудие экономического
роста»,
мысль о том,
что:
«
патентование
не имеет
отношения к
развивающимся
странам или
что оно
несовместимо
с экономическими
задачами
развивающихся
стран вредный
миф,
поскольку
создает
впечатление,
будто можно
попросту
отказаться
от участия в
международной
патентной
системе и продолжать
успешно
развиваться.
Это ошибка,
так как
патенты
существенная
компонента
экономической
стратегии,
независимо
от того, является
ли страна
развитой или
находится в
процессе
экономического
развития»[410].
Мы не
стали бы
уделять
таким
отдельным
заявлениям
особого
внимания,
если бы оно
не было типичным
для
преобладающей
в ВОИС точки
зрения. Из
нашего
отчета,
несомненно,
следует, что
связь защиты
интеллектуальной
собственности
с развитием
намного
сложнее, чем
предполагается
в указанной
публикации.
Мы признаем
роль ВОИС в
поощрении
защиты ПНИС,
но считаем,
что здесь
необходим
гораздо
более тонкий
подход,
полностью
соответствующий
социально-экономических
задачам,
взятым на себя
ООН и
международным
сообществом.
Более
уравновешенный
подход к
анализу ПНИС,
а следовательно
и программам
ВОИС, сослужит
добрую службу
как самой
организации,
так и развивающимся
странам,
составляющим
ее большинство.
Врезка 8.2
Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности
(ВОИС)
ВОИС
начала свое
существование
в 1893 году в качестве
BIRPI
(французское
сокращение
Объединенного
международного
бюро защиты
индустриальной
собственности).
Эта
организация
была, главным
образом,
создана для
администрирования
Парижской и
Бернской
конвенций по
индустриальной
собственности
и защите
авторских
прав. Она
была
реорганизована
в качестве
агентства
ООН лишь в 1974
году.
Согласно
учредительной
конвенции,
задачей ВОИС
является
«поощрение
защиты
интеллектуальной
собственности
во всем мире».
В свете
этого,
главная
функция
организации
состоит в
«способствовании
разработке
мер эффективной
защиты
интеллектуальной
собственности
во всем мире
и
гармонизации
национальных
законодательств
в этой
области»[411].
Она «убеждена
в
необходимости
полного включения
развивающихся
стран
в
международную
систему
интеллектуальной
собственности»
и считает,
что «с целью
защиты на
глобальном
уровне,
необходимо добиваться
гармонизации
национальных
программ
прав на
интеллектуальную
собственность»[412]. С
таких
позиций
организация
руководит сотрудничеством
и
технической
помощью развивающимся
странам.
Сегодня
основные
функции ВОИС
быть
форумом для
переговоров
по международным
договорам в
области ИС;
администрировать
эти договора
и приводить в
действие
системы
глобальной
защиты, такие
как Договор о
патентном
сотрудничестве
(ДПС) и Мадридскую
систему; а
также
предоставлять
техническую
помощь и
обучение
развивающимся
странам и
странам с
переходной
экономикой.
ДПС
нацелен на
упрощение
международной
патентной
защиты и
сокращение
издержек по ней.
Подавая
международные
патентные
заявки в
рамках ДПС,
заявители
одновременно
стремятся защитить
свои
изобретения
более, чем в
ста странах.
Для
облегчения
общественного
доступа к
технической
информации,
новейшие
заявки по ДПС
публикуются
в «PCT Gazette».
Для
всемирного
объединения
информационных
ресурсов,
процессов и
систем ИС,
особенно
соответствующих
ведомств
стран-членов
ВОИС, была
создана WIPONET -
глобальная
цифровая
информационная
сеть,
обеспечивающая
информационно-обменную
инфраструктуру
и
обслуживание.
WIPONET также
станет
порталом для
других
систем ВОИС,
таких как
Цифровые
библиотеки
интеллектуальной
собственности
(ЦБИС). В будущем
она сможет
помочь
он-лайновой
регистрации
в рамках ДПС.
Интернетная
корпорация
присвоенных
названий и
номеров (ICANN)
администрирует
систему
споров о
доменных
именах,
связанных с
торговыми
знаками, и разрабатывает
оптимальную
бесконфликтную
систему
регистрации
доменных
имен.
Всемирная
академия
ВОИС
обеспечивает
обучение,
консультации
и
научно-исследовательскую
деятельность
в области
интеллектуальной
собственности.
Источник:
http://www.wipo.int
ВОИС
должна
открыто
признать, что
защита ИС
связана как с
преимуществами,
так и с недостатками.
Она должна
больше
подчеркивать
необходимость
подбирать
режим ИС в
соответствии
с
обстоятельствами
той или иной
развивающейся
страны. Это,
по нашему
мнению,
несомненно
выразится в
повышенной
чуткости при
предоставлении
развивающимся
странам
помощи по внедрению
ТРИПС и при
осуществлении
других мер,
обеспечивающих
структуру
прав на ИС в интересах
общества.
На этом
пути ВОИС,
как мы
считаем,
выиграет и от
более
широкого
привлечения
различных
групп, таких,
например, как
потребительские
организации,
заинтересованные
в системе ИС,
к процессу
выработки
решений.
ВОИС
всегда
отзывается на
запросы
промышленного
сектора,
интенсивно
использующего
ИС. Мы, однако,
не убеждены в
том, что эта
организация
в той же мере
отзывчива и
на запросы
потребителей
и
пользователей
продукции с
защитой ИС. В
этом
отношении,
чрезвычайно
важно, чтобы
ВОИС не
рассматривали
лишь в
качестве
организации,
прежде всего
заинтересованной
в сильной
защите ИС[413].
Сравнительно
недавно ВОИС
образовала
консультативные
органы -
Консультативную
политическую
комиссию
(КПК) и
Консультативную
индустриальную
комиссию (КИК).
Мы
приветствуем
создание
этих групп экспертного
консультирования
ВОИС. Мы
также
приветствуем
нижеприводимое
признание
необходимости
при
выработке
политики
организации
учетывать
более
широкий
спектр
сторон и
мнений. Но мы
считаем, что
члены этих
консультативных
органов
должны более
систематически
отражать
разнообразные
общественные
интересы в
области ИС,
интересы как
производителей,
так и пользователей.
На этом пути
представители
промышленности,
ученые,
потребительские
группы и
другие
гражданские
организации,
а также
эксперты по
ИС и
правительственные
представители,
помогут ВОИС
сыграть
более
эффективную
роль в
диалоге
широких
кругов
заинтересованных
сторон. Такую
более
широкую связь
с
пользователями
и
заинтересованными
группами
можно будет,
с пользой для
дела, дополнить
более тесным
сотрудничеством
с другими международными
организациями,
такими как ВОЗ
(особенно при
внедрении
рекомендаций
Декларации,
принятой в
Дохе), ФАО,
ЮНКТАД и Всемирный
Банк[414].
ВОИС
должна действовать,
применяя
интегрированный
подход к делусовмещать
задачи
развития с
поощренияем
защиты ИС в
развивающихся
странах. Она
должна открыто
признаватьявно
осознавать
выгоды и
издержки
различных
аспектов защиты
ИС, а также
вытекающую
отсюда необходимостьи
подбора
местных
режимов в
развивающихся
странах так,
чтобы
недостатки
не перевешивали
преимуществ.
Организация
должна сама указанная
определиться
в отношении
всего
комплекса
необходимых
мер по
достиженю
этой цели и, по
меньшей мере,
обеспечить
представительство целого
ряда
заинтересованных
сторон в
своих
консультативных
комитетах.сделать
так, Кроме
того, ВОИС
должна
стремиться к
более
тесному
сотрудничеству
сама же
она должна
теснее
сотрудничать
с другими
международными
организациями.
Если
ВОИС примет
наши
предложения,
то
возникнет
вопрос о том,
позволит ли ее
настоящий
устав
сделать это
на правомочной
основе.
Задачи
многих
международных
организаций
широки и
многогранны,
что
позволяет им
проявлять
значительную
гибкость
интерпретации,
когда
страны-участницы
решают, что
деятельность
организации
необходимо
приспособить
к новым обстоятельствам.
В отличие от
таких
организаций,
у ВОИС очень
конкретное
задание -
поощрять
защиту
интеллектуальной
собственности
во всем мире,
в том числе и
путем
гармонизации
национальных
законодательств.
Мы не вполне
уверены, что
такое
задание
можно
переистолковать
так, чтобы позволить
ВОИС
адаптировать
свой подход в
развивающихся
странах к
отражению
экономической
необходимости
уравновесить
выгоды и
издержки защиты
ИС.
В случае,
еЕсли
странам-членам
ВОИС не удасется
включить
требуемое
равновесие в
свою деятельность
путем соответствующего переистолкованияанием
статей
своих
положений, необходимых
статей, они
должны будут
им нужно, в
этом случае,
пересмотреть
статьи ВОИС,
с тем, чтобы
позволить им
добиться
этого.
СОГЛАШЕНИЕ
ТРИПС
Вопрос о
том, входят
ли вопросы
соглашения ТРИПС
в
компетенцию
ВТО, был
предметом
многих
обсуждений.
Некоторые
считают, что
ВТО -
по-существу,
организация
свободной
торговли, и
что в ее
компетенцию
не должно
входить
глобальное
правоприменение
стандартов
ИС в странах,
находящихся
на разных
этапах социально-экономического
развития. Они
утверждают,
что
интеллектуальная
собственность
не связана с
торговлей, и
что, поскольку
соглашение
ТРИПС
выгодно, в
основном, развитым
странам, то
тем самым
ослабляется
позиция ВТО
как средства
поощрения
свободной
торговли в
интересах
всех стран.
Ведущим сторонником
такой точки
зрения
является Джагдиш
Бхагвати:
«ТРИПС
не связан с
взаимовыгодой;
он, скорее,
ставит ВТО в
положение
сборщика платежей
интеллектуальной
собственности
от имени
транснациональных
корпораций (ТНК).
Это плохо
отражается
на образе ВТО
и, по
мнению
многих,
особенно
неправительственных
организаций,
доказывает
«захват» ВТО
корпорациями
ТНК»[415].
Противники
этого
аргумента утверждают,
что защита ИС
всегда была
интегральной
частью
торговой и
коммерческой
дипломатии, и
что ТРИПС
образовался
в результате
переговоров
суверенных
государств,
отражая
взаимные компромиссы.
Возможно,
говорят они,
не все развивающиеся
страны
участвовали
в переговорах
ТРИПС, но у
них была
такая
возможность,
и ведущие
развивающиеся
страны, такие
как Индия и
Бразилия,
принимали
активное
участие.
Нам
кажется, что,
несмотря на
историю
переговоров
Уругвайского
раунда и
ассиметрию переговорной
силы
развитых и
развивающихся
стран, ТРИПС,
вероятно,
останется
составной
частью рамок
деятельности
ВТО. Хоть мы и
не совсем
согласны с распространением
стандартов
ТРИПС на все
развивающиеся
страны,
приходится
признать, что
вряд ли
страны-члены
ВТО пожелают
заново вести
переговоры
по этому
соглашению. Многие
страны-члены
организации
опасаются
того, что, в,
стремлении
добиться
поправок в
одном месте,
им придется
пойти на
уступки в
другом месте,
и не уверены, даст ли
им весь этот
процесс
какие-то
особые
преимущества.
Соглашение
ТРИПС, как и
другие
соглашения
ВТО, подлежит
периодическому
пересмотру, поэтому
следует с
полной
серьезностью
отнестись к
реальным
предложениям
по улучшению
положений
ТРИПС в
пользу
развивающихся
стран. В
дополнение к
этим общим
моментам, мы
хотели бы - на
основании
фактов и
наших консультаций
по вопросам
ТРИПС -
сделать еще
два
конкретных
вывода.
Помощь
развивающимся
странам по
внедрению
ТРИПС
Во-первых,
чрезвычайно
важно, чтобы
страны-члены
ВТО
завершили
работу по
выяснению элементов
гибкости
ТРИПС в плане
охраны общественного
здоровья, а также,
чтобы
развивающимся
странам была
дана
возможность
воспользоваться
этими и
прочими
элементами
гибкости
данного
соглашения. В
развивающихся
странах,
начиная с 1995
года, введено
было много новых
законодательных
положений ИС
и некоторые
комментаторы[416]
выражают
озабоченность
тем, что доступной,
по ТРИПС,
гибкостью
они не всегда
пользуются с
учетом
местных
потребностей.
В нашем
анализе
принятых
законов и
законодательных
проектов по
ИС было
установлено,
что,
примерно,
лишь в
четверти из
рассмотренных
70
развивающихся
стран и НРС
растения и
животные
явно
исключены из
области патентной
защиты. Менее
половины
стран предусматривают
международное
исчерпание
патентных
прав и менее
пятой части
ввели так называемое
«исключение
Болар» к
патентным правам[417].
Разумеется,
у
развивающихся
стран могут
быть
уважительные
причины для
нежелания пользоваться
предоставленной
гибкостью, если
они
осознанно
пришли к
такому
решению. Но
свободу их
действий,
возможно,
ограничивают
другие
обязательства,
такие как
двусторонние
соглашения.
Возможно
также, что
это происходит
из-за того,
что
ответственные
за законодательный
процесс не
осведомлены
о разных
воможностях,
вариантах и
последствиях.
Как мы уже
отмечали в
Разделе 7,
развивающиеся
страны
получают
техническую
помощь в
области ИС от
множества
национальных
и международных
учреждений,
таких как
ЕПВ, Патентное
ведомство
США и
организации
по ИС в развитых
странах.
Однако
решающую
роль в задании
стандартов
через
типовое
законодательство
и
техническую
помощь
играет ВОИС,
являющийся
международным
учреждением
по поощрению
ИС. Наши
комментарии
по этому
вопросу,
соответственно,
адресованы
ВОИС, хотя
они применимы
и к другим
организациям,
консультирующим
развивающиеся
страны по
разным аспектам
ИС.
Мы
установили,
что хотя
работники
ведомств ИС в
развивающихся
странах
высоко ценят
техническую
помощь ВОИС,
некоторые лица
и
организации
выразили
серьезные
опасения в
том, что
помощь ВОИС
не всегда
соответствует
конкретным
обстоятельствам
той или иной
развивающейся
страны[418].
Конфиденциальный
характер
консультаций
ВОИС в
развивающихся
странах и
отсутствие
официальной
политики в
отношении
характера
оказываемой
технической
помощи не
позволяют
сегодня установить,
насколько
обоснованы
такие опасения.
Кроме того,
ВОИС не
опубликовала
типового
законодательства
ИС с
комментариями,
которые бы указывали
на то, в какой
степени ее
консультации
отражают
дозволенные
в рамках
ТРИПС элементы
гибкости.
Имеются
указания на
то, что там,
где признали
помощь ВОИС,
результаты
не всегда
включали все
дозволенные
по ТРИПС
элементы
гибкости.
Например,
пересмотренное
Соглашение
Бангуи для
стран OAPI, где
известно, что
ВОИС
оказывала
помощь, было
раскритиковано
за то, что оно
идет дальше
необходимого
в рамках
ТРИПС. Оно
обязывает
НРС,
являющиеся
странами-членами
OAPI (а
таких стран в
OAPI
большинство),
которые ратифицировали
ТРИПС, начать
применять
его раньше
необходимого;
оно
ограничивает
принудительное
лицензирование
более строго,
чем
требуется по
ТРИПС; в нем
четко не
излагается
разрешение
на
параллельный
импорт; оно
включает
элементы
УПОВ 1991 года и
обеспечивает
70-летний срок
защиты
авторских
прав после
смерти
автора.
Тем не
менее, совсем
недавно,
реагируя на
высказываемые
опасения,
ВОИС
открыла на
своем
интернет-сайте
страничку с
описанием
помощи в
вопросах
законодательства,
которую ВОИС
предоставляет
в рамках
ТРИПС и
Декларации,
принятой в
Дохе. В дополнение
к типовому
законодательству
по ИС, ВОИС
также
отмечает,
что:
«Советы
ВОИС
учитывают
все элементы
гибкости,
доступные
странам-членам
по соглашению
ТРИПС,
включая
элементы,
упомянутые в
Министерской
декларации,
принятой в
Дохе, по
соглашению
ТРИПС и
здравоохранению
(«Министерской
декларации в
Дохе»). В
советах ВОИС
учтены
индивидуальные
особенности
и
обстоятельства
каждой
страны,
различные
правовые
системы и
разные
политические
и культурные
структуры
стран-участниц.
ВОИС следит
за
внедрением
своих
правовых
консультаций,
предоставленных
в письменном
виде,
посредством
интерактивного
процесса и
взаимодействия
организации
с главными
заинтересованными
сторонами
той или иной
страны-участницы
организации.
Для укрепления
процесса
внедрения
ТРИПС на протяжении
последних
четырех лет
ВОИС поощрял
взаимодействие
заинтересованных
сторон на
национальном
уровне,
включая,
например,
среди
прочего,
сотрудников
комиссий по
законодательным
реформам,
торговых палат,
отраслевых
федераций,
научно-исследовательских
заведений и
учреждений
развития,
парламентариев,
ответственных
сотрудников
министерств
торговли,
сельского
хозяйства,
здравоохранения,
науки и
технологии,
культуры, юстиции
и окружающей
среды»[419].
Мы
приветствуем
такое заявление
ВОИС,
выражающее
обязательство
предоставлять
развивающимся
странам консультативную
помощь, с
учетом
гибкости ТРИПС
и особых
обстоятельств
каждой страны.
Кроме того, как мы
отмечали в
предыдущем
разделе, мы
придаем
большое
значение
широкому
процессу
консультаций
в развитии
законодательства
каждой
страны.
Такие
консультации
существенны
и необходимы
для разработки
законодательства
по ИС в
соответствии
с задачами
развития
сельского
хозяйства,
здравоохранения
и
промышленности.
Тем не менее,
мы считаем,
что это лишь
начало
процесса,
необходимого
для того,
чтобы ВОИС
по-настоящему
реагировала
на
специфические
нужды каждой
развивающийся
страны. По
нашему
мнению, например,
действующее
типовое
законодательство
ВОИС по
патентованию
требует
доработки,
необходимой
для
оптимального
использования
развивающимися
странами
всех
элементов гибкости
ТРИПС[420]. Могут
понадобиться
и другие
организационные
и
процедурные
изменения
для практического
внедрения
всех этих
программ.
Другим
организациям,
предоставляющим
техническую
помощь по ИС,
также
следует
продумать
элементы
своей
политики в
свете
приведенных соображений.
ВОИС должна
предпринять
действия по
осуществлению
провозглашенной
ею политики более
адекватного лучшего
реагирования
на конкретные
обстоятельства
той или иной
развивающейся
странынеобходимость,
в своих
рекомендациях
по ИС., учитывать
конкретные
обстоятельства
той или иной
развивающейся
страны. Она
должна,
совместно Вместе
с
правительством
соответствующей
страны, она
должны подключить
к подготовке
законодательства
по вопросам
ИС как можно
больше
заинтересованных
сторон,
представляющих
правительство
и другие
организации,
а также возможных
владельцев и
пользователей
ИС.
Аналогичные
шаги должны
быть
предприняты
и другими
сторонами,
предоставляющими
техническую
помощь
развивающимся
странам.
Временной
график
внедрения
ТРИПС
Нашим
вторым
заключением
в отношении
ТРИПС
является то,
что, следуя
общему
направлению
настоящего
отчета, мы не
были
убеждены аргументами
о том, что
развивающиеся
страны, на
своих очень
разных
этапах
развития,
обязаны
принять
конкретную
дату (январь 2000
года для
развивающихся
стран и
январь 2006 года
для НРС)
обеспечения
стандартов
ТРИПС в своих
внутренних
режимах
защиты ИС,
независимо
от прогресса
в деле создания
жизнеспособной
технологической
базы.
Напротив, мы
полагаем, что
имеются веские
доводы в
пользу
проявления
большей гибкости,
в отношении
оптимального
времени
укрепления
защиты ИС с
учетом
социально-экономического
и
технологического
развития той
или иной
страны.
ТРИПС
содержит
положения о
продлении
Советом
ТРИПС
переходного
периода для
НРС. По
логике
нашего
анализа они
должны
распространяться
шире, на все низкодоходные
развивающиеся
страны[421]. Мы
считаем, что
использование
их для большего
учета особых
потребностей
НРС приведет
к улучшению
ТРИПС.
Указанным
странам
нужно больше времени
на
разработку
подходящего
для них
режима ИС и
создание
необходимой
административно-организационной
инфраструктуры
и
нормативных
рамок, в том
числе
времени на
принятие
дополнительных
законодательных
мер, таких
как
законодательство
по
конкуренции.
Все это -
серьезные
задачи, и
развивающиеся
страны могут
пострадать,
если
поторопятся создавать
режим ИС, не
соответствующий
их уровню
развития.
Довольно
очевидно
также, что у
правительств
многих НРС,
особенно в Африке,
к югу от
Сахары,
имеются
намного
более насущные
проблемы в
таких
жизненно-важных
областях, как
здравоохранение,
образование
и
продовольственное
снабжение.
Мы не
считаем, что
предоставление
НРС возможности
более
длительного
переходного
периода в
отношении
ТРИПС
существенно
затронет
интересы развитых
стран.
Декларация,
принятая в
Дохе, начала
процесс
согласованием
продления -
для НРС -
переходного
периода
патентной защиты
фармацевтических
изделий по
меньшей мере
до 2016 года.
Логично,
наверное,
распространить
такое
продление
переходного
период на
внедрение
всех
элементов
ТРИПС. Совет ТРИПС
может все это
осуществить
в полном соответствии
с
существующими
положениями
Статьи 66.1.
Более того,
мы полагаем,
что Совет ТРИПС
должен также
рассмотреть
критерии, в соответствии
с которыми
НРС будут
применять
ТРИПС и после
2016 года. Такие
критерии
могут
включать
показатели
экономического
развития и
научно-технического
потенциала, относящиеся
к указанным в
этой статье
критериям
«необходимой
в гибкости
для создания
жизнеспособной
технологической
базы»[422].
Необходимо
предоставить
НРС
продленный переходный
период
внедрения
ТРИПС, который
завершилтся
бы не ранее
2016 года.
Совет ТРИПС
должен рассмотреть
возможность
введения
критериев
дальнейшего
продления
указанного
срока,
основанных
на
экономических
и технологических
показателях.
НРС,
принявшие у
себя стандарты
ТРИПС по
защите ИС,
должны иметь
правобыть
в состоянии,
при желании, вносить
поправки в изменить
свое
законодательство
в течение
этого продленного
переходного
периода.
ИС В
ДВУСТОРОННИХ
И
РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЯХ
Развитые
страны, в
частности
США и страны
ЕС, стремятся
поощрить
развивающиеся
страны
соблюдать
международные
соглашения по
ИС, внедряя у
себя более
высокие
стандарты
защиты ИС. В
прошлом,
против тех или
иных
развивающихся
стран, чей режим
ИС не отвечал
ожиданиям
торговых
партнеров из
развитых
стран,
применяли
торговые
санкции или
лишали
торговых
льгот[423]. В
последнее
время, в
двусторонних
и региональных
торговых и
инвестиционных
соглашениях
развитых стран
с
развивающимися
наметилась
тенденция
добиваться
от последних
обязательств
по
стандартам
ИС, выходящим
за рамки
ТРИПС[424]. В
нижеследующей
Таблице 8.1
приводятся
некоторые
примеры.
Мы
согласны с
тем, что у
развитых
стран в какой-то
мере есть
законный интерес
в соблюдении
их торговыми
партнерами
стандартов
ИС. По нашему
мнению,
однако, региональные
и
двусторонние
соглашения гораздо
менее
предпочтительнее
многосторонних
стандартов,
где, несмотря
на ассиметрию
переговорного
потенциала
развитых и
развивающихся
стран, все же
существует
противовес в
виде
численного
преимущества
развивающихся
стран и их
способности
создавать
альянсы.
Более того,
существует
опасность
подрыва
многосторонней
системы
региональными
или
двусторонними
соглашениями,
сужающими
использование
развивающимися
странами
элементов гибкости
и исключений
ТРИПС. В
частности,
принцип
режима
наибольшего
благоприятствования
означает, что
согласованные
на двустороннем
или
региональном
уровне
условия
должны быть
предложены и
всем другим
странам-членам
ВТО на той же
основе.
Было
бы
нереальным
считать, что
тема установления
стандартов
ИС полностью
исчезнет из
двусторонней
и
региональной
коммерческой
дипломатии. В
такой
обстановке
развитым
странам, в
региональных
и двусторонних
торговых
соглашениях,
важно придерживаться
такой
политики ИС,
которая явно
совпадает с
более
широкой
задачей поощрения
международного
развития и
снижения
уровня
бедности. В
целях
достижения
этой задачи
мы призываем
развитые и
развивающиеся
страны (см.
Раздел 7)
привлекать
широкие круги
правительственных
и
неправительственных
заинтересованных
сторон к выработке
политики ИС.
Последняя
должна включать
в себя также
и задачи
развития,
причем здесь
должны
приложить
усилия как
развитые, так
и
развивающиеся
страны.
Развивающиеся
страны не должны
принимать у
себя прав на
ИС,
навязанных развитыми
странами,
если те
выходят за
рамки
существующих
обязательств
по международным
соглашениям.
Во время
переговоров делегации
развитых
стран должны,
наряду с интересами
своих
промышленных
отраслей, учитывать
также и
воздействие
повышенных
стандартов
ИС на
развивающиеся
страны.
Таблица 8.1.
Примеры
двусторонних
соглашений с
более
высокими
стандартами,
по сравнению
со
стандартами
ТРИПС[425]
Соглашение
|
Дата
|
Примеры
положений,
выходящих
за рамки требований
ТРИПС
|
|
Соглашение
о свободной
торговле
между США и
Иорданией
|
2000
|
Каждая
сторона
должна
ввести у
себя в силу избранные
положения
договора
ВОИС о защите
авторских
прав и
Договора
ВОИС о
выступлениях
и фонограммах,
а также
Конвенцию
УПОВ (1991г.).
Стороны не вправе
исключать
растения и
животных из
рамок
патентной
защиты и
обязаны
продлевать патентные
сроки в виде
компенсации
за задержки
без
уважительных
причин - в
получении
необходимых
разрешений.
|
|
Соглашение
о торговых
отношениях
и ПНИС между
США и
Камбоджей
|
1996
|
Каждая
сторона
обязана
принять
Конвенцию
УПОВ,
обязана
продлевать,
в
определенных
случаях,
срок защиты
авторских
прав до 75 лет
со дня
публикации
или до 100 лет
после создания
(ТРИПС
требует
лишь
минимального
срока в 50 лет в
обоих
случаях), и
стороны не
должны
позволять
другим
полагаться
на данные,
поданные
для
получения
фармацевтических
разрешений,
в течение
разумного
периода,
который, как
правило,
должен составлять
не менее 5 лет.
|
|
Соглашение
о торговых
отношениях
между США и
Вьетнамом
|
2000
|
Стороны
не вправе
исключать
из рамок
патентной
защиты
изобретения,
включающие
более одного
вида
животных
или
растений.
|
При
повышенной
приоритетности
задач развития
в политике
развитых
стран (судя
по результатам
встреч в Дохе
и Монтеррее),
было бы
неразумным допускать
преимущественное
влияние на политику ИС
индустриально-коммерческих
кругов
развитых
стран, чья
точка зрения
на нужды
развивающихся
стран
зачастую диктуется
собственными
интересами. В
свете всех
имеющихся в
их
распоряжении
фактов,
правительства
развитых
стран должны
выработать
собственную
точку зрения
на то, как
лучше
увязать задачи
развития
развивающихся
стран с собственными
коммерческими
интересами,
причем это не
должен быть
лишь «вариант
игры с нулевой
суммой» [выигрыш
одного
игрока равен
проигрышу
второго]. Нам
кажется, что
большинство
развитых стран
недостаточно
учитывают
задачи развития
при
формулировании
своих международных
политических
программ в
области ИС.
Более
конкретно, мы
считаем, что
развитые
страны
должны
прекратить
распространенную
практику
использования
региональных
и двусторонних
соглашений в
качестве
средства
создания в
развивающихся
странах режима
ИС,
выходящего
за рамки
ТРИПС[426].
Развивающиеся
страны
должны быть
свободны в
выборе
собственного
режима ИС в
рамках ТРИПС.
Хотя развивающиеся
страны,
считающие,
что это в их
интересах,
вправе сами
решать,
ускорять ли
внедрение
об
ускоренном
внедрении
стандартов,
выходящих за
рамки ТРИПС,
развитые
страны
должны
пересмотреть
своюу
себя
региональную/двухстороннюю
коммерческую
политику с тем,
чтобы и
не
навязывать
развивающимся
странам стандарты
и графики,
выходящие за
рамки ТРИПС.
УЧАСТИЕ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН
Для
правомочного
установления
стандартов в
странах с
очень разным
уровнем
развития,
важно, чтобы
развивающиеся
страны принимали
в этой
деятельности
активное
участие. Декларация,
принятая в
Дохе,
частично
отразила то,
что
развивающиеся
страны
смогли представить
тщательно
разработанные
конкретные
предложения,
которыми
можно было
воспользоваться
при
составлении
правил ВТО. Одним
из очевидных
последствий
этого и
темой,
фигурировавшей
на
протяжении
всей нашей
работы на местах,
было то, что
развивающееся
страны должны
быть
способны
более
эффективно
участвовать
в
международных
переговорах
по ИС, причем
на
регулярной, а
не
исключительной
основе.
Для
эффективного
участия
развивающимся
странам
необходимы
следующие
четыре фактора:
постоянное
представительство
в Женеве;
делегации
экспертов,
способные
полноправно
участвовать
во встречах и
переговорах;
адекватная
техническая
поддержка анализа
политики; а
также
функциональные
механизмы
координации
и обсуждения
политических
направлений
в столицах
соответствующих
государств. В
Разделе 7 мы
обсуждали
вопрос о необходимости
лучшей
«состыковки»
политики развивающихся
стран и
чрезвычайной
важности
наличия, в
национальных
учреждениях,
соответствующих
экспертов по
выработке
политики в области
ИС. Здесь мы
рассмотрим
два остальных
вопроса.
Постоянное
представительство
в Женеве
Постоянное
представительство
в Женеве важно
иметь для
следующих
целей:
адекватного
потока
информации в
столицы
соответствующих
стран;
участия в
неформальных
консультациях
и
переговорах;
создания
коалиций со
странами,
придерживающимися
аналогичных
точек зрения;
права
председательствовать
на
заседаниях; а
также для
получения
возможности
доступа к
службам и
помощи
секретариата.
В недавнем
исследовании,
проведенным
секретариатом
Содружества[427], было
установлено,
что у 36
развивающихся
стран,
ставших либо
собирающихся
стать членами
ВТО, нет
постоянного
представительства
в Женеве, так
как у них нет
средств на
создание и
работу
такого представительства[428]. Наш
анализ
показал, что
у 20 из 45 НРС
стран-членов
ВОИС или ВТО,
либо стран,
собирающихся
присоединиться
к ВТО, в
настоящее
время нет постоянного
представительства
в Женеве. Даже
там, где у развивающихся
стран есть
постоянное
представительство,
численность
его, в
среднем, составляет
лишь
половину
численности
представительств
развитых
стран[429]. Есть
две
различные
категории
развивающихся
стран. Около 30-35
развивающихся
стран, включая
Бразилию,
Египет, Индию
и некоторые
НРС, такие
как Бангладеш,
являются
эффективными
активными
участниками
ВТО и
ВОИС. В
соответствии
с этим, они
оказывают
влияние на
выработку правил
этих
организаций.
Остальные же
развивающиеся
страны, в том
числе многие
НРС, даже
если и
присутствуют
на
заседаниях
ВТО и ВОИС, являются
на них,
фактически,
всего лишь
зрителями.
Делегации
специалистов
Развивающиеся
страны
должны, в
идеале, посылать
на
международные
переговоры и
встречи по
разным
вопросам ИС
делегации
своих экспертов.
Несмотря на
схемы
финансовой
помощи ВОИС,
для
большинства
развивающихся
стран фундаментальным
ограничением
является
отсутствие
средств на
командировочные
расходы[430]. Даже
когда
делегации и
посылаются,
знания специалистов
нередко
ограничены
вопросами
администрирования
ПНИС, а не
понимания ИС
как орудия политики.
Мы считаем,
что
развивающимся
странами
нужно
включать в
свои
делегации,
приезжающие
на встречи и
переговоры
по ИС, экспертов
по экономике,
здравоохранению,
окружающей
среде и
сельскому
хозяйству.
Во избежание
нежелательных
последствий,
мы считаем,
что нужно
искать
решение этой
важной проблемы.
Некоторые
спонсоры
поддерживают
важные
инициативы
на проектной
основе[431]. Среди
развивающихся
стран есть
страны, достигшие
определенного
прогресса
(например,
Ботсвана в 2001
году открыла
в Женеве
представительство
и сейчас
регулярно
участвует в
заседаниях
Совета
ТРИПС). Но
предстоит
еще многое сделать
для того,
чтобы в
значительном
числе
развивающихся
стран
произошли
какие-то
существенные
улучшения.
Ниже
мы предлагаем
два вида
рекомендаций,
направленных
на более
активное
участие
развивающихся
стран в
выработке
международных
стандартов ИС.
Первая
рекомендация
касается
отправки
представителей
бедных
развивающихся
стран,
особенно НРС,
на важные
заседания
ВОИС и Совета
ТРИПС ВТО. Мы
считаем, что
этого можно
добиться
сравнительно
легко и без
особых
затрат за
счет
расширения
существующей
схемы, согласно
которой ВОИС
субсидирует
определенные
заседания.
Новая схема
должна, в
основном,
быть
нацелена на
НРС,
поскольку
эти страны
хуже всех
представлены
в Женеве и
идут на большие
затраты при
отправке
делегаций на международные
переговоры и
заседания по ИС.
Эта схема
должна также
быть открыта
для всех
развивающихся
стран с
низким
доходом.
ВОИС должна
расширить
существующий
порядок финансирования
участия
представителей
представительства
развивающихся
стран,
обеспечив их
представительство
на тех важных
форумах ВОИС
и ВТО, где
затрагиваются
их интересы.
ВОИС и страны-члены
этой
организации
должны сами решить,
как лучше
осуществить
эти меры в
рамках
собственных
бюджетных
средств
ВОИС.
Наша
вторая
рекомендация
направлена
на методы
качественного
улучшения
участия развивающихся
стран,
представители
которых
могут не
иметь
экспертных
знаний и опыта
в области
международных
стандартов
ИС и соотношения
ИС с
национальными
интересами, а
также могут
быть
незнакомы с
некоторыми
техническими
вопросами,
обсуждаемыми
в ВОИС и
Совете ТРИПС.
Чтобы решить
эту проблему,
мы
предлагаем
создать при
ЮНКТАД в Женеве
две новые
должности
советников
по интеллектуальной
собственности
(одну по
индустриальной
собственности,
а вторую по
защите авторских
прав,
традиционным
знаниям и другим
вопросам ИС).
После
тщательного
анализа мы
пришли к
заключению,
что ЮНКТАД -
самая лучшая,
для такой
роли,
организация,
в силу широких
полномочий
по
осуществлению
технической
помощи и
исследованиям
не только по
ИС, но и по
всему
спектру
вопросов
торговли и
развития.
Важно и то,
что ЮНКТАД,
по-видимому,
пользуется
доверием
развивающихся
стран,
которые
скорее всего
будут
главными пользователями
указанных
услуг.
Имеется и прецедент
- ЮНКТАД
недавно
учредил, при финансировании
МДМР,
аналогичную
должность
для помощи
развивающимся
странам в переговорах
о торговле и
услугах в
ВТО.
ЮНКТАД
должна
учредить две
новые
должности
советников
по интеллектуальной
собственности,
которые
последние
будут
консультировали
быть
развивающиеся
страны по
вопросам
международных
переговоров
в области ИС.
Мы предлагаем,
чтобы МДМР
рассмотрело
вопрос о первоначальном
финансировании
этих должностей в
качестве следующего
шага к,
продолжив
текущемуе
проектномуе
финансированиюе
ЮНКТАД в
вопросах
ТРИПС.
Мы
подчеркиваем,
что эти меры
ни в коем
случае не
предназначены
для
замены административного
и
аналитического
потенциала
национальных
учреждений
развивающихся
стран,
направленного
на
укрепление
ИС. Мы фактически,
настаиваем
на том, чтобы
эти рекомендации
дополняли
рекомендации
Раздела 7.
РОЛЬ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Нас
поразило
современное
широкое
влияниение
неправительственных
организаций
на
деятельность
в области ИС.
Мы полагаем,
что
неправительственные
организации
вносят и
будут
вносить положительный
вклад в
осознание
проблем развивающихся
стран.
Развернутые
неправительственными
организациями
кампании в пользу
здравоохранения
и
развития оказались
важным фактором
поддержки
развивающихся
стран на переговорах,
приведших к
министерской
Декларации,
принятой в
Дохе. В
области
сельского хозяйства,
генетических
ресурсов и
традиционных
знаний
неправительственные
организации
играют
важную роль,
привлекая внимание
к проблемам
развивающихся
стран и
необходимости
анализа
таких
проблем.
Неправительственные
организации,
разумеется,
сильно
разнятся по
представляемым
интересам,
соотношению
активной и
исследовательской
деятельности
в пользу
развивающихся
стран и тому,
насколько
«шумно» они
эти интересы
представляют.
В отношении
неправительственных
организаций
нередко
задают
законный
вопрос о том,
кого,
собственно,
они
представляют
и кому подотчетны.
Мы полагаем,
что
временами
нужен и более
созерцательный
подход, но
нельзя отрицать
того факта,
что
неправительственные
организации
помогли
привлечь
внимание к вопросам
ИС, и что
некоторые из
них имеют в
этой области
больше
специалистов,
чем многие
развивающиеся
страны. Здесь
крайне важно
обеспечить
конструктивную
роль неправительственных
организаций
и верный
анализ того,
в чем заключаются
интересы
развивающихся
стран. Нужно
также, чтобы
эти
организации
играли
соответствующую
роль в
международном
диалоге по
этим
вопросам.
Выражают
также
озабоченность
восприятием
ряда
неправительственных
организациий
в качестве
«доверенных
представителей»
правительств
развивающихся
стран в
международных
диалогах.
Указывают на
то, что
развивающимся
странам
следует
более
разборчиво
относиться к
получению
помощи от
неправительственных
организаций.
Но в какую бы
форму такая
поддержка не
облекалась, важно,
чтобы
развивающимся
странам
оказывали
помощь и
давали
возможность
осознавать и
защищать
собственные
интересы. Мы
считаем, что
развивающимся
странам
нужны разные
источники
помощи при
разработке
политики ИС и
при участии в
переговорах.
Неправительственные
организации,
несомненно,
являются
одним из
таких
источников, но
выполняемая
ими сегодня
роль
отражает тот
факт, что они,
до некоторой
степени, лишь
заполняют
пробел. В
соответствии
с вышесказанным,
мы считаем,
что очень
важно, чтобы
и другие
источники такой
помощи, в
частности,
такие
международные
учреждения,
как ВОЗ или
ФАО,
признали, что
следует
точнее
«настроить»
свои советы и
техническую
помощь на
нужды
развивающихся
стран в
области ИС. В
то же время,
неправительственные
организации
и другие гражданственно-общественные
группы смогут
сыграть
более
конструктивную
роль, если им
предоставить
больше
возможностей
для участия в
такой
работе.
ВТО и ВОИС
должны
расширить
возможности
гражданственно-общественных
организаций
играть свою
законную
роль
наиболее
конструктивным
образом,
которые
должны
играть свою,
по
возможности,
конструктивную
законную
роль. МожноНадо,
например, пригласитьопросить
неправительственные
и
аналогичные
организации
стать
членами или
наблюдателями
соответствующих
консультативных
комитетов, а
также наладитьживая
регулярный общественный
диалог по
актуальным
проблемам с
участием
неправительственных
организаций.
УГЛУБЛЕНИЕ
ПОНИМАНИЯ
ВОПРОСОВ ИС И
РАЗВИТИЯ
Международные
правила ИС
развиваются очень
быстро. Как
было
отмечено в
Разделе 5, примерно
через год
после
согласования
ТРИПС, ВОИС
завершил
подготовку
двух новых международных
договоров,
касающихся
защиты
авторских
прав и
Интернета.
Этими сложными
вопросами в
ВОИС
занимается
Межправительственный
комитет по
интеллектуальной
собственности
и
генетическим
ресурсам,
традиционным
знаниям и
фольклору.
Недавно
страны-члены
ВОИС стали
также
сосредотачивать
усилия на
будущем
патентной
системы на
международном
уровне. По
мере
изменения
правил, важно
верно
понимать их
современное
и будущее
воздействие,
вырабатывая
политику на
твердой основе
и фактах, а не
бытующих
мнениях об их
значимости
или эффекте
на
развивающиеся
страны.
Такая
задача имеет
два аспекта.
Во-первых, как
мы уже
отмечали,
необходимо
собрать
больше
данных об
эффекте
введения более
сильной
защиты ИС в
развивающихся
странах,
особенно
низкодоходных,
где нет жизнеспособной
технологической
базы.
Во-вторых,
диапазон
возникающих
вопросов,
соотношение
которых с
защитой ИС и
развитием
необходимо
глубже
понять и
проанализировать,
оказался очень
широким.
Например,
приблизительный
перечень
всего лишь
нескольких
тем будущей
повестки дня
на
последующие
5-10 лет включает
следующее:
·
Последствия
полного
внедрения
ТРИПС для развивающихся
стран,
включая положения,
относящиеся
к
правоприменению.
·
Последствия
тенденции в
направлении
гармонизации
и интеграции
патентной
системы на
международном
уровне.
·
Воздействие
патентов и
других ПНИС в
новых или
быстро
развивающихся
областях
технологии,
таких как
биотехнология
и
программное
обеспечение.
·
Воздействие
на доступ к
важной, для
для развивающихся
стран,
информации
на Интернете,
включая
технологическую
защиту со
стороны
издателей и
других
поставщиков
информации и
противообходное
законодательство.
Кроме того,
возникнут
вопросы о
том, как
реагировать,
когда страны
пытаются
взять под
свою
юрисдикцию иностранные
серверы,
чтобы
повлиять на
то, как такие
серверы
распространяют
информацию
по Интернету.
·
Альтернативные
модели
защиты ПНИС,
подходящие
для
развивающихся
стран.
·
Как
развивающимся
странам
оптимально
расширить
свой
потенциал
для
разработки
политики,
администрирования
и
правоприменения
в области ИС,
и как
спонсоры
могут оказать
этому более
эффективную
поддержку.
Сегодня
деятельность
по ИС
поддерживается
и осуществляется
спонсорами
из
разноообразных
организаций
общественного
и частного
сектора
университетами,
неправительственными
организациями,
промышленными
объединениями,
институтами
ИС и
агентствами
развития.
ВОИС
заказывает
анализ на те
или иные темы
(была, например,
завершена
очень
полезная
программа
изучения
традиционных
знаний) и -
время от
времени -
исследовательские
работы, но
нас удивило
то, что ВОИС
не
поддерживает
более обширных
научно-исследовательских
программ,
посвященных
возникающим
на местах вопросам.
Всемирная
академия
ВОИС в
настоящее
время
сосредоточила
усилия,
главным
образом, на
обучении, но
ей поручено
также вести и
исследовательскую
деятельность.
Мы сочли бы
ценным для
ВОИС
развернуть в
академии научно-исследовательскую
деятельность,
которая послужила
бы
источником
информации и
для ВОИС и
для
стран-членов
организации
о воздействии
ИС на
развивающиеся
страны,
находящиеся
на разных
этапах
развития. Как
мы уже отмечали,
слишком мало
исследований
сосредоточено
на
низкодоходных
развивающихся
странах. Еще
меньше такой
деятельности,
в рамках национальных
программ,
осуществляется
самими
организациями
развивающихся
стран.
Мы
считаем, что,
с точки
зрения
развития, система
может лишь
выиграть от
более глубокого
понимания ИС
и вопросов
развития. Для
спонсоров во
всем мире и
тех, кто
осуществляет
научно-исследовательскую
деятельность,
важно
поэтому, быть
на высоте
указанных
задач. На все
вышеперечисленные
темы нужны,
безусловно,
дополнительные
исследования
и информация
по разным
странам. Хоть
это и далеко
не
исчерпывающий
перечень, мы,
однако, полагаем,
что, помимо
вопросов
средств и
исследовательских
приоритетов,
преимущества
будут
связаны
также и с
углублением
сотрудничества
и
координации
между
спонсорами исследований
и
пользователями
в развитых и
развивающихся
странах.
Мы
имеем в виду
международную
сеть и партнерские
инициативы,
которые
объединят
между собой
агентства
развития,
правительства
развивающихся
стран,
исследователей
ИС и
неправительственные
организации.
Их целью
должно стать
определение
приоритетов
и поощрение
координации
научно-исследовательских
программ,
улучшение
обмена
информацией
между
партнерами и
способствование
широкому
распространению
установленных
данных путем
спонсорства
публикаций,
конференций
и
интернетных
ресурсов.
Управляющий
комитет мог
бы наблюдать
за
осуществлением
инициатив и
деятельностью
рабочих
групп, сформированных
по
определенным
темам. Для большей
эффективности
таких
инициатив, вероятно,
понадобится
небольшой
секретариат,
который, в
идеале, мог
бы
располагаться
в одной из
партнерских
организаций.
В рамках
указанных в
настоящем
отчете областей,
спонсоры,
помогающие
исследовательской
работе,
включая
ВОИС,
должны выделить
фонды на
дополнительные
исследования
и анализ
связи
вопросов ИС с
развитием.
Создание в
области ИС международной
сети и
партнерства
спонсорских
организаций,,
правительств
развивающихся
стран, агентств
развития и
научных
учреждений,
работающих в
области ИС, поможет
определить и
скоординировать
исследовательские
приоритеты,
обмен
даннымиы
и широкое
распространение
полученных
результатов. Мы
рекомендуем,
чтобы По
нашему
мнению,
необходимо,
чтобыв
качестве
первого шага
МДМР, в
сотрудничестве
с другими
сторонами,
разработаловило
и
выдвинуло определение
такой
инициативы.
СОКРАЩЕНИЯ
СПИД
Синдром
приобретенного
иммунного
дефицита
ARIPO
Африканская
региональная
организация
индустриальной
собственности
АРВ
Антиретровирусный
КБР
Конвенция о
биологическом
разнообразии
КГМСИ
Консультативная
группа
международных
сельхозисследований
КМЗ
Комиссия про
макроэкономике
и
здравоохранению
(ВОЗ)
МДМР
Министерство
по делам
международного
развития
(Соединенное
Королевство)
АЗАПЦТ Акт о
защите
авторских
прав в
цифровом тысячелетии
ЕПВ
Европейское
патентное
ведомство
ЕС
Европейский
Союз
ФАО
Продовольственная
и
сельскохозяйственная
организация
(ООН)
УКПЛ
Управление
по контролю
за
продуктами и
лекарствами
(США)
ГАТТ
Общее
соглашение о
тарифах и
торговле
ГН
Географические
названия
ГМ
Генетически
модифицированный
ГСК
ГлаксоСмитКлайн
Плс
ВИЧ
Вирус
иммуннодефицита
человека
МЦТУР
Международный
центр
торговли и
устойчивого
развития
МФСР
Международный
фонд
сельскохозяйственного
развития
ИС
Интеллектуальная
собственность
МПК
Международная
патентная
классификация
МИГРР
Международный
институт
генетических
ресурсов
растений
ПНИС
Права на
интеллектуальную
собственность
МДГРР
Международный
договор по
генетическим
ресурсам
растений
МОГРР
Международное
обязательство
по генетическим
ресурсам
растений
НРС
Наименее
развитые
страны
МНИС
Медицинский
научно-исследовательский
совет
(Соединенное
Королевство) MSF Mιdecins sans Frontiθres
NGO
Неправительственные
организации
НИЗ
Национальные
институты
здравоохранения
(США)
OAPI Organisation
Африкаine de la Propriιtι Intellectuelle
ОАЕ
Организация
африканского
единства
ОЭСР
Организация
экономического
сотрудничества
и развития
ПСР
Права
селекционеров
растений
ДПС
Договор о
патентном
сотрудничестве
ПИС
Предварительное
информированное
согласие
ЗКР
Защита
культур
растений
R&D
Научно-исследовательская
и
разработочная
деятельность
МСП
Малые и
средние
предприятия
STD
Заболевания,
передающиеся
половым
путем
TB
Туберкулез
TK
Традиционные
знания
ЦБТЗ
Цифровая
библиотека
традиционных
знаний
ТРИПС
Соглашение
по торговым
аспектам
прав на интеллектуальную
собственность
ООН
Организация
Объединенных
Наций
ЮНАИДС
Совместная
программа
ООН по
ВИЧ/СПИДу
ЮНКТАД
Конференция
ООН по
торговле и
развитию
ПРООН
Программа
развития ООН
ЮНЕСКО
Организация
ООН по
вопросам
образования, науки
и культуры
ЮНИДО
Организация
ООН по
промышленному
развитию
УПОВ
Международный
союз защиты
новых
культур растений
USDA
Министерство
сельского
хозяйства США
USPTO Бюро
патентов и
торговых
знаков США
ВОЗ
Всемирная
организация
здравоохранения
ВОИС
Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности
ВТО
Всемирная
торговая
организация
ГЛОССАРИЙ
Биопиратство:
Принятого
определения
биопиратства нет.
Группа
действия по
эрозии, технологии
и
концентрации
(Группа ЭТК)
определяет
его как
«захват
знаний и
генетических
ресурсов
сельского
хозяйства и
коренных
общин
отдельными
лицами или
учреждениями,
стремящимися
к
исключительному
монопольному
контролю
(обычно,
патентные
права или
права селекционеров)
над этими
ресурсами и
знаниями».
Исключение
Болар:
Исключение
из патентных
прав,
позволяющее
третьей
стороне, не
спрашивая
разрешения
патентообладателя,
осуществлять
с запатентованным
продуктом
действия,
необходимые
для
получения
необходимых разрешений.
Принудительная
лицензия:
Лицензия на
использование
запатентованного
изобретения,
предоставленная,
по
требованию,
государством
третьей стороне,
например,
чтобы
компенсировать
злоупотребление
правами со стороны
патентообладателя.
Авторские
права
(копирайт): (См.
Врезку 1.1)
Исключительные
права
создателей
оригинальных
литературных,
научных и художественных
работ,
которые
возникают,
без
каких-либо
формальных
процессов, с
созданием
таких работ и
длятся (как
правило) в
течении
жизни
создателя
плюс 50 лет (70 лет
в США и ЕС).
Защита
авторских
прав предотвращает
контрафактные
репродукции,
общественные
представления,
записи, передачи,
перевод и
адаптацию,
позволяя
получать
лицензионные
платежи за
разрешенное
использование.
Перекрестное
лицензирование:
Взаимообмен
лицензиями
между
патентообладателями.
Защита баз
данных: (См. Врезку 1.1 и
Врезку 5.2) Специфическая
(sui generis) система
защиты,
предотвращающая
неутвержденное
использование
наборов
данных, даже
неоригинальных.
Дифференцированное
или
многоуровневое
ценообразование:
Практика
задания
различных
цен на различных
рынках,
обычно более
высокие цены
относятся к
более
богатым
рынкам и
более низкие
цены к бедным
рынкам.
Раскрытие
происхождения:
(См.Врезку 4.4)
Требование к
патентному
заявителю
раскрыть в
патентной
заявке
географическое
происхождение
биологических
материалов, на
которых
основано
изобретение.
Декларация,
принятая в
Дохе (о
соглашении ТРИПС
и
здравоохранении): (См.
Врезку 2.1)
Декларация,
согласованная
на
министерской
встрече ВТО в
Дохе в 2001 году, в
которой
утверждается,
что соглашение
ТРИПС
необходимо
истолковывать
и внедрять в
свете
содействия
здравоохранению.
В ней
поясняются
некоторые
элементы
гибкости,
дозволенные
для этих
целей
Соглашением.
Рассмотрение
(полная
экспертиза): Полная
экспертиза
патентных
заявок, осуществляемая
патентным
экспертом,
для определения
соответствия
заявок
правовым требованиям
патентоспособности,
приведенным
в
законодательстве.
Такое
рассмотрение
учитывает любые
обнаруженные
в процессе
патентного поиска
документы.
Исчерпание
прав:
принцип, в
соответствии
с которым
права на ИС в
отношении
того или
иного
продукта считаются
исчерпанными
(т.е.
правообладатель
больше не
может ими
пользоваться)
когда продукт
выходит на
рынок по
инициативе
владельца ИС
или уполномоченного
им лица.
Справедливое
использование
или справедливая
деятельность: (См.
Врезку 5.1)
Исключение
из правил
защиты авторских
прав,
позволяющее
третьим
сторонам
использовать,
в
определенных
обстоятельствах,
материалы с
защитой
авторских прав.
Национальные
законодательства
по защите
авторских
прав
большинства
стран имеют
исключения,
связанные с
личным
пользованием,
научно-исследовательской
деятельностью,
образованием,
архивным
копированием,
библиотечным
пользованием
и новостными
сообщениями,
основанные
на принципе
«справедливой
деятельности»
или
«справедливого
пользования»
(США).
Фермерские
права:
(См. Врезку 3.2)
Права,
связанные с
прошлым, настоящим
и будущим
вкладом
фермеров в
сохранение,
улучшение и
доступность
генетических
ресурсов
растений,
особенно
растений в
центрах происхождения/
разнообразия.
Схожие)
медицинские
препараты
(препараты-генерики): Схожие
лекарственные
препараты
(генерики)
являются
химическим
эквивалентом
запатентованного препарата.
Геномика: Научная
дисциплина
нахождения
картины генной
последовательности
и анализа
геномов.
Географические
названия (ГН): (См.
Врезку 1.1)
Названия с
указанием конкретного
географического
происхождения
продукта с
определенными
качествами,
репутацией и
прочими
характеристиками
продукта, связанными
с его
происхождением.
Например,
продовольственные
продукты
иногда обладают
качествами,
связанными с
местом производства
и местными
экологическими
факторами. ГН
предотвращают
использование
неутвержденными
сторонами
защищенных
ГН продуктов
не из соответствующего
региона или
ввод в заблуждение
относительно
действительного
происхождения
продукта.
Гибридные
культуры:
Культуры на
основе семян,
полученных
на основе
двух
различных
культур.
Права на
интеллектуальную
собственность
(ПНИС): (См.
Врезку 1.1)
Права,
которые
общество
предоставляет
отдельным
лицам или
организациям
на
изобретения,
литературные
и художественные
работы,
символы,
названия,
образы и коммерчески
используемый
дизайн. Они
дают правообладателю
право
предотвращать,
в течение
ограниченного
периода,
неутвержденное
использование
его
собственности
другими.
Ландрас: Культуры
растений и
породы
животных,
которые были
генетически
улучшены
традиционными
сельскохозяйственными
методами, без
использования
современной
селекционной
практики.
Открытые
источники:
Программное
обеспечение
с
общедоступным
источниковым
кодом.
Параллельный
импорт: импорт
запатентованного
продукта
после появления
его на рынке
страны
правообладателя
или другой
уполномоченной
стороны.
Например, в
ЕС можно
законно
купить
продукт у
оптового
торговца в
Португалии
для продажи в
Великобритании,
хотя продукт
запатентован
в обеих
странах.
Правовой
статус параллельного
импорта
остается на
усмотрение
национальных
законодательств
и связан с
вопросом исчерпания
прав.
Патент: (См. Врезку 1.1)
Исключительное
право,
предоставляемое
изобретателю,
предотвращать,
в течение
ограниченного
периода, неутвержденное
или
нелицензированное
изготовление,
продажу,
распространение,
импорт или
использование
изобретения
другими. В
обмен на это,
общество
требует от
патентообладателя
публичного
раскрытия
информации.
Существуют,
обычно, три
требования
патентоспособности:
новизна
(новые, ранее
не известные
работы, отличные
от
«предыдущих
работ»),
изобретательный
шаг или
неочевидность
(знания, не
очевидные для
того, кто
практикуется
в той или
иной области),
и
индустриальная
применимость
или утилитарность
(США).
Права
селекционеров
растений
(ПСР): (См.
Врезку 1.1)
Права,
предоставленные
селекционерам
новых,
отличающихся,
однородных и
стабильных
культур растений.
Обычно
выдается по
меньшей мере
двадцатилетняя
защиту прав.
Большинство
стран имеют
исключения,
позволяющие
фермерам
хранить и
повторно
высевать
семена на своих
участках, а
также для
дальнейшей
научно-исследовательской
деятельности
и
селекционной
работы.
Защита
культур
растений
(ЗКР): см.
права
селекционеров
растений.
Предыдущие
работы: Публикации
или иная
информация,
публично известная
до даты
регистрации
(или приоритетности)
патентной
заявки, по
сравнению с
которой
оценивают
новизну и
изобретательность
изобретения,
фигурирующего
в патентной
заявке.
Предварительное
информированное
согласие
(ПИС):
Согласие той
или иной
стороны на
определенную
деятельность
на основе
полной информации
обо всех
существенных
фактах,
относящихся
к указанной
деятельности.
КБР требует,
чтобы доступ
к генетическим
ресурсам был
обусловлен
предварительным
информированным
согласием
страны, предоставляющей
соответствующие
ресурсы.
Регистрация:
Формальная
процедура
получения прав
на ИС, обычно
требует
подачи и
рассмотрения
заявки.
Определенные
права на ИС,
например, авторские
права,
доступны
автоматически
без
необходимости
в
регистрации.
Патентные
заявки в
некоторых
странах
можно регистрировать
после
простой
проверки.
Инструменты
научно-исследовательской
деятельности: Все
используемые
в
научно-исследовательской
деятельности
средства,
способы и методы.
Обратное
проектирование: Процесс
анализа
чего-то для
понимания
его функционирования,
с целью
воспроизводства
или
улучшения.
Особенно
важно в
области
защиты
авторских
прав, когда
обратное
проектирование
программного
обеспечения
может быть
необходимым
для
обеспечения
взаимодействия
с другими программами.
Также,
например,
важно в
полупроводниках
и в
производстве
схожих
(генерических)
медицинских
препаратов.
Поиск: Поиск
патентным
экспертом предыдущих
работ, с
привлечением
внимания
заявителя к
документам,
которые, по
мнению
патентного
эксперта,
могут помочь
в решении
вопроса о
том, является
ли
изобретение
в патентной
заявке новым
и изобретательным.
Основой
поиска
материалов
являются
другие
патентные
заявки, но, в
принципе,
сюда
попадают
любые формы предыдущих
работ.
Sui Generis:
Выражение,
означающее
«особого
рода» на латыни.
Специфическая
(sui generis) система
защиты,
например,
традиционных
знаний
- система,
отличная от существующих
систем ИС .
Технологическая
защита: Защита с
помощью
технологических
средств
против
копирования
или
неутвержденного
использования.
Наиболее
распространенной
формой
является
кодирование
цифровой
информации, а
также
придание
растениям
свойств,
делающих
семена менее
производительными
или, возможно,
бесплодными.
Торговые
секреты: (См. Врезку 1.1)
Коммерчески
ценная
информация о
производственных
методах,
бизнес-планах,
клиентской
сети и т.д.
Защищены до тех
пор, пока они
остаются
секретами в
силу законодательства,
предотвращающего
их приобретение
несправедливыми
коммерческими
средствами и
путем
неутвержденного
раскрытия.
Торговый
знак: (См.
Врезку 1.1)
Исключительные
права на
использование
отличающихся
знаков, таких
как символы,
цвета, буквы,
формы или названия,
опознающие
производителя
продукта и
защиту
связанной с
ним
репутации.
Период
защиты
бывает
разным, но
защиту торгового
знака можно
возобновлять
на неограниченный
срок.
Традиционные
Знания (TЗ): Общепринятого
определения
нет, но TЗ
включают,
например,
традиционные
произведения,
инновации,
литературу,
художественные
и научные
работы,
представления
и дизайн.
Такие знания
зачастую
передаются
из поколения
в поколение и
часто
ассоциируются
с
определенным
народом или
территорией.
Утилитарные
модели: (См. Врезку 1.1)
Утилитарная
модель
зарегистрированное
право, дающее
владельцу
исключительную
защиту
изобретения,
аналогичную патенту.
Многие
развитые и
несколько развивающихся
стран имеют
определенную
систему
утилитарной
модели в
дополнение к
патентной
системе, но
точные формы
таких систем
могут быть
очень
разными. В
целом, как и
при
патентовании,
для защиты на
основе утилитарной
модели,
изобретение
должно быть
новым,
связанным с
изобретательным
шагом и быть
промышленно
применимым.
Уровень
изобретательности
однако здесь,
в целом,
более низкий,
чем в
патентах. Кроме
того, в
утилитарных
моделях
можно предоставить
защиту без
предварительного
рассмотрения
проверки
выполнения
этих условий.
ВЫРАЖЕНИЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Комиссия
выражает
свою
признательность
всем тем, с
кем мы
консультировались
в ходе нашей
работы и тем,
кто внес свой
вклад в виде
ценных
наблюдений,
экспертных
знаний и времени.
При
подготовке
настоящего
отчета мы
учли все эти
мнения. Мы
благодарны
всем тем, с
кем
встречались
во время
поездок в
Китай, Индию,
Бразилию,
Кению, Южную
Африку, Женеву,
Брюссель,
Вашингтон и
Лондон. Мы
также высоко
ценим вклад
всех тех, кто
участвовал в
работе
международной
конференции,
состоявшейся
в феврале 2002
года. Мы особо
благодарны
авторам
рабочих
документов
Комиссии и
тем, кто
участвовал в
организованных
нами
встречах-семинарах
для специалистов.
Перечень
организаций,
с которыми
проводились
консультации
(Для
удобства
нахождения
ссылок и
сокращений
название
организаций
оставлено в
первоначальном
виде)
БРАЗИЛИЯ: A2R Environmental Fund, ABAPI, ABES, ABRASEM, Action Aid
Brazil, Bioamozonia, Brazilian National Library, CREA, Daniel & Cia,
Dannerman, Siemsen & Ipenema Moreira, EMPRAPA, Extracta, FAPESP, FINEP,
FIOCRUZ, Forum ONG Aids, GlaxoSmithKline, Grupo dela Vidda, IBAMA, IBPI, INPI,
Instituto Socio Ambiental, Interfarma, Ministry of Agriculture, Ministry of
Culture, Ministry of Development, Industry and Commerce, Ministry of
Environment, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health, Ministry of
Science and Technology, Monsen, Leonardos & Cia, SBACEM, SOCIMPRO, Sun
Microsystems.
БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ: Association Internationale de la Mutualitι (AIM), EFPIA
(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), European
Commission DG Development, European Commission DG Trade.
КИТАЙ: Beijing High Court, China Bureau of
Copyright, Chinese Academy of Science, Double Crane Pharmaceuticals, Fudan
University, Legend Computers, Microsoft, Ministry of Science and Technology,
Office for the Protection of New Plant Varieties, Shanghai Pudong Intellectual
Property Centre, Shanghai Video and Audio Software Co. Ltd, SIBS, Monsanto,
SIPO, Tong Ren Tang, Tsinghua University, UK Embassy Beijing, United Gene
Institute, US Consulate General Beijing, Yong You Software Company.
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ: Australian Permanent Mission, Canadian
Permanent Mission, Center for International Environmental Law (CIEL), Ghanaian
Permanent Mission, IFPMA, Indian Permanent Mission, Malaysian Permanent
Mission, Peruvian Permanent Mission, Quaker United Nations Office, Third World
Network, UK Permanent Mission, UNCTAD, WHO, WIPO, WTO, WWF.
ИНДИЯ: Abbott, Anand & Anand, BDH Biotech Ltd, Centre for
Biochemical Technology, CIPLA Ltd, Corporate Law Group, Department of Indian
Systems of Medicines & Homeopathy, Department of Industrial Policy and
Promotion, Department of Science and Technology, GlaxoSmithKline plc, ICI India
Ltd, ICRIER, IDMA, IPA, Kumaran & Sagar, National Botanical Research
Institute, National Innovation Foundation, National Instiute of Science
Communication, National Working Group on Patent Laws, Nicholas Piramal India
Ltd, Novartis Ltd, OPPI, Pfizer Ltd, Ranbaxy Laboratories Ltd, Subramaniam,
Nateraj & Associates, Themis Medicare Ltd, Unichem.
КЕНИЯ: African Centre for
Technology Studies (ACTS), African Regional Industrial Property Organisation
(ARIPO), African Seed Trade Association (AFSTA), Coffee Research Foundation,
Cosmos Pharmaceuticals Limited, GlaxoSmithKline (GSK), Institute of Economic
Affairs (IEA), Kenya Agricultural Research Institute (KARI), Kenya Industrial
Property Office (KIPO), Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS),
Kenyan Coalition for Access to Essential Medicines (KCAEM), Kenyan National
Farmers Union (KNFU), Ministry of Agriculture, Ministry of Health - Chief
Pharmacist, Ministry of Tourism and Trade, Registrars General Office, Seed
Trade Association of Kenya (STAK), Tea Research Foundation.
ЛОНДОН, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (Международные конференции и встречи-семинары комиссии): ActionAid, Actions Jeunesse, African Centre for Technology
Studies, AIPPI, Amersham PLC, Amsterdam Center for International Law, Animal
Diseases Research Institute, Aslib-IMI, Assinsel, Association of University
Teachers, AstraZeneca, Australian National University, Authors Licensing and
Collecting Society Ltd, Berne Declaration, Biogenerics Inc, BioIndustry
Association, Bowdoin College, Brazilian Embassy to the UK, British Computer
Society, British Computer Society, British Copyright Council, British Music
Rights, British Phonographic Industry, Buko Pharma-Kampagne, Burns, Doane,
Swecker and Mathis, LLP, CAB International, Cafod,
Cambridge Economic Policy Associates Ltd, Caribbean Regional Negotiating
Machinery, Centre for International Development at Harvard University, Centre
for International Programmes and Links, CGIARISNAR, Chartered Institute of
Patent Agents, CIPLA Ltd, CISAC,
Commonwealth Secretariat, Confederation of British Industry, Conserve Africa
International, Consumer Project on Technology, Consumers International, DEFRA,
DOH, DFID, Dow Jones Newswires, Drug Study Group, Duke University School of
Law, ECHO International Health Services, Economic Commission for Africa, EPSRC,
Essential Drugs Project, e-TALC, European Medicines Evaluation Agency, European
Patent Office, Falco-Archer, Inc, FCO, Florida State University College of Law,
Foga, Daley & Co, Food Right, Forum for Biotechnology and Food Security,
Foundation for International Environmental Law and Development (Field), Free
Software Foundation European, French Embassy Economic Service, GENE CAMPAIGN,
Genetic Engineering Alliance, Genewatch UK, German Patent and Trade Mark
Office, GlaxoSmithKline, Global Alliance for TB Drug Development, Herbert
Smith, HM Treasury, Honeybee Network, House of Lords, IFPI, Indian Institute of
Management, Indian National Botanical Research Institute, Indigenous Peoples
Biodiversity Network, Information Waystations and Staging Posts, Institute for
Agriculture and Trade Policy, Institute for Global Health, Institute of Arable
Crops Research, Institute of Development Studies, International Association for
the Protection of Intellectual Property (AIPPI), International Centre for Trade
and International Chamber of Commerce, International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations, International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies, International Indian Treaty Council,
International Policy Network, International Union for the Protection of New
Varieties of Plants (УПОВ), International Vaccine
Institute, IPPPH - Global Forum for Health Research, ITDG, John Innes Centre,
Kent Law School, Kenya Mission to WTO, Kenya Plant Health Inspectorate Service,
Kenyan Plant Breeders Rights Office, Ketchua-Aymara Association for Sustainable
Livelihoods, Lakhanpal Productions, Library Association, Light Years IP, Limbe
Botanic Garden, Linklaters and Alliance, Liverpool University, Max Planck
Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law,
McDermot, Will and Emery, Mιdecins Sans
Frontiθres, Merck & Co Inc,
Microsoft Corporation, Monsanto, National Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology (Thailand), Natural Resources Institute, Natural Resources
International Limited, Nigerian Coalition for Access to Essential Medicines,
Nigerian Federal Medical Centre, NM Rothschild & Sons Limited, No Patents
on Life Coalition, Non Profit Library, Congo DR, OECD, Open University, Oxfam,
Oxford IP Research Centre, PATH, Pfizer Inc, Portuguese Institute of Industrial
Property, Prospect, Quaker United Nations Office, Queen Mary Intellectual
Property Research Institute, Research & Information System for Developing
Countries, Reuters, Rothamsted International, Rouse and Co. International Ltd,
Royal Botanic Gardens Kew, Royal Courts of Justice, SCF, SciDev.Net, Science
Centre for Social Research Berlin, Sheffield University, Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental, South Centre, SSL International plc, Stanford University,
Steptoe and Johnson, Stop AIDS Campaign, Sustainable Development, Swiss Federal
Institute of Intellectual Property, The Association of the British
Pharmaceutical Industry, The British Council, The British Society of Plant
Breeders, The Burnhams Group, The Economist, The Journal Server Trust, The Lancet,
The Patent Office, The Rockefeller Foundation, The Royal Society, The World
Bank, Third World Network, Trade Marks Patents and Designs Federation, UNAIDS,
UNCTAD, UNDP, Unique Solutions, United Nations Association, University College
London School of Public Policy, University of the West of England, UNU/INTECH,
US National Science Foundation, USTR, VSO, Wellcome Trust, Catalyst Biomedica,
Willoughby & Partners, World Health Organization, World Intellectual
Property Organisation, World Markets Research Centre, World Press Centre,
Zambian Mission in Geneva, Zikonda and Associates.
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ: European Patent
Office
ВАШИНГТОН, США: AEI, BIO, CPTech, Dept Health and Human Services, House
Judiciary Committee, IIPA, IIPI, Merck, National Institute of Health, PGFM,
PhRMA, Senate Judiciary Committee, State Department, USTR, Venable, World Bank.
Хотя работа
Комиссии
финансировалась
британским
министерством
по делам
международного
развития и
британским
патентным ведомством,
ей была
предоставлена
полная свобода
действий; к
своим
выводам
Комиссия
пришла
независимо, и
выражаемые в
отчете взгляды
могут не
отражать
точки зрения
британского
правительства.
[10] Оним
из
показателей
технологического
потенциала
является
ежегодное
получение патентов
США. Среди
развивающихся
стран, получивших
в 2001 году свыше
50 патентов
США были: Китай
266, Индия 179,
Южная Африка
137, Бразилия 125,
Мексика 87,
Аргентина 58,
Малайзия 56.
Тайвань
получил 6545 патентов
и Южная Корея
3763, но по
классификации
Всемирного
Банка они к
развивающимся
странам не
относятся.
Источник: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_all.pdf
[12] В 1994 году
на Китай
приходилось
4.9% глобальных затрат
на
научно-исследовательскую
и разработочную
деятельность,
на Индию и
Центральную
Азию 2.2%, на
Латинскую
Америку 1.9%,на
страны
тихоокеанского
бассейна и
юго-восточную
Азию 0.9% (за исключением
новоиндустриализованных
стран) и
страны
Африки, к югу
от Сахары 0.5%. UNESCO
(1998) World Science Report 1998,
UNESCO, Geneva, стр.20-21. Источник:
http://www.unesco.org/science/publication/eng_pub/wsr98en.htm
[15] См.
определение
в глоссарии.
[19] Hardin, G. (1968) The Tragedy of
the Commons Science, vol. 162, стр.1243-1248.
[21]
Jewkes, J., Sawers, D. & Stillerman, R. (1959) The Sources of Invention, St Martins Press, New York, стр.255.
[22] Сюда входят: UNCTAD (1996) The TRIPS Agreement and Developing Countries,
UNCTAD, Geneva; UNDP (2001) Human Development
Report 2001, UNDP, Geneva. Источник:
http://www.undp.org/hdr2001/; World
Bank (2001), Chapter 5; и
Bystrom, M. & Einarsson, P. mimeo
(2001) TRIPS: Consequences for
Developing Countries: Implications for Swedish Development Cooperation,
SIDA, Stockholm. Источник:
http://www.grain.org/docs/sida-trips-2001-en.PDF
[25] См.
определение
в глоссарии.
[27] См.
определение
в глоссарии
[28]
Точная роль
знаний и
технических
изменений
давно
обсуждается
экономистами,
которые, в
основном,
придерживаются
этой точки
зрения.
Доступное
для непрофессионального
читателя
обсуждение
дискуссий
приведено в
работе: World Bank (1999) World Development Report
1998/99: Knowledge for Development, World Bank, Washington DC, стр.18-22.
Источник: http://www.worldbank.org/wdr/wdr98/
[29]
World Bank (1999), стр.20.
[30] Maskus, K. (2000a) Intellectual Property Rights in the Global Economy, Institute for
International Economics, Washington DC, стр.73-79.
[31] Mansfield, E. (1986) Patents and
Innovation, Management Science, vol.
32:2, стр.173-81.
[32] Radovesic, S. (1999) International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development,
Elgar, Cheltenham, стр.242. Также
Saggi, K. (2000) Trade, Foreign Direct
Investment and International Technology Transfer: A Survey, World Bank,
Washington DC S. (1999) (Источник:
http://www1.worldbank.org/wbiep/trade/papers_2000/saggiTT-fin.pdf),
и Rosenberg, N. (1982)
Inside the Black Box; Technology and
Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
[33] См.
определение
ДПС в
глоссарии.
[34] Среди
развивающихся
стран,
получивших в
2001 году свыше 50
патентов США были:
Китай 266, Индия
179, Южная
Африка 137,
Бразилия 125,
Мексика 87,
Аргентина 58,
Малайзия 56.
Тайвань получил
6545 патентов и
Южная Корея 3763,
но по классификации
Всемирного
Банка они к
развивающимся
странам не
относятся. По
нашим подсчетам
развивающиеся
страны в
перечне
Всемирного
Банка получили
в 2001 году 1560
патентов США
из общего числа
184057.
Источник: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_all.pdf
[35] Информация
предоставлена
ВОИС. 4816 заявок
в 1999-2001 годах
пришлось на
эти пять
стран из
общего числа
заявок
развивающихся
стран составляющего
5014. Всего в 1999-2001
годах было 268918
заявок. Много
заявок также
поступило из
Южной Кореи (4622)
и Сингапура (640).
[36] См.
определение
в глоссарии.
[37]
Stiglitz, J. Knowledge as a Global Public Good, in Kaul, I. Grunberg, I.
& Stern, M. (eds) (1999) Global
Public Goods in the 20th Century: International Cooperation in the
20th Century, Oxford University Press, Oxford.
[38] Более
подробно эти
вопросы
обсуждаются
в Разделе 6.
[39] Опыт
стран с
зарождающейся
экономикой, таких,
как Южная
Корея,
говорит о первоначальной
ведущей роли
государственного
сектора, но
по мере роста
частного
сектора, тот
становится
более новаторским
и
преобладающим.
Так, в Южной
Корее, больше
всего
патентов США
получено в
частном
секторе, в
частности
электроники.
В Индии
ведущую роль
все еще
играет
государственный
сектор, но
есть
признаки
большей патентной
активности в
частном
секторе.
Например, в 2001
году две
ведущие
фармацевтические
фирмы Индии
получили 11
патентов США,
по сравнению
с 58 патентами
Совета
научных и
промышленных
исследований
Индии.
Источник: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/asgstc/inx_stc.htm
[40] Penrose, E. (1951) The Economics of the International Patent
System, The John Hopkins Press, Baltimore, стр.116-117.
[41] Machlup, F. (1958) An Economic Review of the Patent System,
US Government Printing Office, Washington DC, стр.80.
[44] Sachs, J. The Global Innovation Divide,
in Jaffe, A., Lerner, J. and
Stern, S. eds. (ожид.)
Innovation Policy and the Economy: Volume 3, MIT Press, Cambridge
MA. Источник:
http://www.nber.org/books/innovation3/
[45] См.
определение
в глоссарии.
[46] В
Указаниях
для
заявителей
это
подытожено
следующим
образом:
Такие
повторные
постоянные
продления
существующих
периодов защиты
авторских
прав
превышают
полномочия Конгресса
по пункту об
авторских
правах, как
ввиду
нарушения
требования
"ограниченных
периодов"
так и из-за
нарушения
требования
суда об
"оригинальности".
Во-первых, требование
"ограниченных
периодов"
нарушено, так
как
постоянные
продления не
"ограничены";
во-вторых,
предоставленный
существующей
работе
период не
"поощряет
прогресс
науки"; а
в-третьих,
предоставление
более длительного
периода на
существующую
работу нарушает
копирайтное
требование quid pro quo
монопольное
право дается в обмен на
общественную
пользу.
Источник: http://eon.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/supct/opening-brief.pdf
[47]
Источник: http://www.myoutbox.net/poar1858.htm
[48] См.
определение
в глоссарии.
[49] Machlup, F. & Penrose, E. (1950)
The Patent Controversy in the Nineteenth Century. The
Journal of Economic History, vol. 10:1, стр.20.
[50]
Хотя
патентные
эксперты и
другие могут
сомневаться
в том, что
предоставление
патента
ничего не
оставляет на
произвол.
[51] Machlup и Penrose (1950),
стр. 24.
[52] Penrose (1951), стр. 120-124.
[53]
Обязательное
производство
налагало, по
патентному
законодательству,
разные обязательства,
обеспечивая
производство
патентованных
изделий на
месте, а не
импорт его из
страны,
предоставившей
патент.
[54]
Schiff, E. (1971) Industrialisation
Without National Patents: The Netherlands 1869-1919, Switzerland, 1850 1907,
Princeton University Press, Princeton.
[55] См.
определение
в глоссарии.
[56] Акт,
среди
прочего,
обеспечивал
лишь защиту
процесса (в
течение семи
лет) в
пищевой, фармацевтической
и химической
отраслях. Это
позволило
осуществить
обратное
проектирование
патентованного
препарата
при условии
использования
в
производстве
другого
процесса.
[57] См.
определение
в глоссарии.
[58]
Kumar, N. (2002) Intellectual Property Rights, Technology and Economic
Development: Experiences of Asian Countries, Commission Background Paper 1b,
London, стр.27-35.
Источник:
http://www.iprcommission.org
[60] Мин.
торговли США,
Бюро
экономического
анализа,
различные
публикации.
[62] См.
определение
используемых
в этом предложении
терминов в
глоссарии
[63]
Khan, Z. (2002) Intellectual Property and Economic Development: Lessons from American
and European History, Commission Background Paper 1a, London. стр.16. Источник:
http://www.iprcommission.org
[64] Maskus, K. & McDaniel, C. (1999)
Impacts of the Japanese Patent System on Productivity Growth. Japan
and the World Economy, vol. 11, стр. 557-574.
[65]
Dahab, S. (1986) Technological Change in
the Brazilian Agriculture Implements Industry, Неопубликованная докторская диссертация,
Yale University, New Haven; и
Mikkelsen, K. (1984) Inventive Activity
in Philippines Industry, неопубликованная докторская диссертация,
Yale University, New Haven.
[66] Здесь
использованы
работы Maskus и McDaniel (1999) и Kumar (2002).
[68]
Thomas, S. Intellectual Property in Biotechnology SMEs, in
Blackburn, R. (ed.) (в печати) Intellectual Property and Innovation Management in Small Firms,
Routledge, London.
[70]
См.
обсуждение в Kumar (2002), стр.6 и в Maskus (2000a), стр.169.
[71] Gould, D.
& Gruben, W. (1996) The Role of Intellectual Property Rights in Economic
Growth, Journal of Development Economics,
vol. 48, стр 323-350.
[72] См.
обсуждение в Maskus (2000a), стр.102-109.
[73] См.
обсуждение в Maskus (2000a), стр.102-109.
[76] Maskus, K. & Penubarti, M. (1997)
How Trade-Related Are Intellectual Property Rights? Journal of International Economics, vol. 39, стр. 227-248; и Smith, P. (1999) Are Weak
Patent Rights a Barrier to US Exports?, Journal
of International Economics, vol. 48, стр.151-177.
[76]
Maskus (2000a), стр.113.
[77]
Maskus (2000a), стр.113.
[78]
Обсуждение
этой
литературы
есть в Maskus (2000a), стр.119-142; и Kumar (2002), стр.11-18.
[79] Maskus (2000a), стр.
131.
[82]
Документ
Генеральной
Ассамблеи
ООН A/55/1000,
26 июня 2001 года. ПНИС
упомянуты, но
не обсуждаются
во время
дебатов о
потоках
частного
капитала или
прямых
иностранных
инвестиций.
Источник: http://www.un.org/esa/ffd/a55-1000.pdf
[85] История и современное положение дел рассмотрены в Patel,
S., Roffe, P. и Yusuf,
A. (2001) International Technology
Transfer: The Origins and Aftermath of the United Nations Negotiations on a
Draft Code of Conduct, Kluwer Law International, The Hague.
[89]USTR начал
(по разделу 301
Акта о
торговле)
расследование
того, почему
страны не
обеспечивают
адекватную
защиту ИС в
отношении
фармацевтических
изделий в
Бразилии (1987),
Аргентине (1988) и
Таиланде (1991).
Источник: http://www.ustr.gov/html/act301.htm#301_52
[91] Обзор
соответствующих
фактов
приведен в Scherer, F.M. (2001) The Patent System and Innovation in Pharmaceuticals, Revue Internationale de Droit Economique,
(Особое
издание, Pharmaceutical Patents, Innovations and Public Health), стр.109-112
[92]
Лекция сэра
Ричарда
Сайкса в Королевском
институте
международных
отношений,
Лондон, 14
марта 2002 года.
[101]
Комиссия по мaкроэкономике
и
здравоохранению
(2001)
[102]
Комиссия по мaкрoэкономике и
здравоохранению
(2001), стрp.77
[103]
См.
определение
в глоссарии.
[104] Комиссия
по мaкроэкономике
и
здравоохранению
(2001), стр. 86-91
[105] Комиссия
по мaкроэкономике
и здравоохранению
(2001),
стр.79, и сноска
103, где
обсуждаются
разные оценки.
[106] MSF (2001),
стр. 16
[107] Scrips Pharmaceutical R&D Compendium 2000.
Источник: www.inpharm.com/intelligence/largesize/cmr020801al.gif.
Однако, есть
разные
оценки.
Оценка
этого
источника на
1998 год - 38 млрд
долларов США,
в то время
как оценка
Глобального
форума по
научно-исследовательской
деятельности
в
здравоохранении
составляет
на 1998 год 30.5 млрд
долларов США.
Global Forum for Health Research (2002) The 10/90 Report on Health Research 2001-2002 Global Forum for
Health Research, Geneva, стр.
107. Источник:
http://www.globalforumhealth.org/pages/index.asp
[108]
Trouiller, P. et al (2002) Drug Development for Neglected Diseases: a
Deficient Market and a Public Health Policy Failure The Lancet, vol. 359, стр.2188
94. Источник:
http://www.thelancet.com
[109] MSF (2001),
стр. 12.
[110] Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (2001) PhRMA Industry Profile 2001, PhRMA, Washington DC, стр.16.
[111] Global Forum for Health Research
(2002), стр.107.
[112] Global Forum for Health Research
(2002), стр.107.
[113] MSF (2001), стр. 21.
Маловероятно,
что более 1.2 млрд долларов
США тратится
в дополнение
к 2.5 млрд
долларов США
по данным для
низко- и
среднедоходных
развивающихся
стран.
[114] Сюда,
среди прочих,
входят
Инициатива
разработки
медицинских
препаратов
против малярии
(MMV),
Глобальный
альянс по
разработке
противотуберкулезных
препаратов,
Международная
инициатива
вакцины
против
СПИДа (IAVI),
планируемая Medicines for Leishmanisias and Trypanosomiasis Initiative (MLT).
[115]
Lanjouw, J. & Cockburn, I. (2001) New Pills for Poor People? Empirical
Evidence after GATT, World Development,
vol. 29:2, стр.265-289.
26 См. UNAIDS (2002), стр.105.
[119] Необнаруженные
бактерии
могут
находится в организме
месяцами или
годами.
[121]
Представители
промышленности
говорят, что
на успешную
разработку
нового
медицинского
препарата
может уйти 10-15
лет и что,
вероятно,
лишь три из
каждых
десяти
лекарств дают хорошую
прибыль.
Разработка
каждого
препарата может
стоить
500-800 млн
долларов США.
Эти цифры,
однако,
спорные.
Точка зрения
промышленности
изложена,
например на
сайте: http://www.phrma.org/publications/publications/primer01
[122] Kettler, H. (2002) Using Innovative Action to Meet Global
Health Needs through Existing Intellectual Property Regimes, Commission
Background Paper 1a, London, pp.24-26. Источник: http://www.iprcommission.org.
[123]
Комиссия по мaкроэкономике
и
здравоохранению
(2001), стр. 85
[124] По
сообщениям,
иностранные
фармацевтические
компании с
неохотой
идут на
увеличение
объемов
научно-исследовательской
и разработочной
деятельности
из-за
отсутствия
защиты
фармацевтических
изделий. С
другой
стороны,
имеются
факты роста в
последние
годы
инвестиций,
чтобы воспользоваться
научно-исследовательскими
кадрами
Индии.
Например, AstraZeneca
недавно
создала
научно-исследовательский
центр в
Бангалоре
для
исследований,
среди прочих
болезней, туберкулеза.
См, например, Kumar, N. (2002) Intellectual Property Rights, Technology and
Economic Development: Experiences of Asian Countries, Commission
Background Paper 1b, London, стр. 35. Источник:
http://www.iprcommission.org а также Express Pharma Pulse,
2 May 2002. Источник:
http://www.expresspharmapulse.com/20020502/story3.shtml
[125] Консультативная
группа по
международным
сельскохозяйственным
исследованиям,
координируемая
секретариатом
Всемирного
Банка.
Источник: http://www.cgiar.org/
[128]
Attaran, A. & Gillespie-White, L. (2001), стр.1891.
[129] См. UNAIDS (2002), стр.189-201.
[131]
Отсутствие
патентов
зачастую
указывает на
отсутствие
недавней
научно-исследовательской
деятельности
по этим
болезням. См. Trouiller, P. et al (2002).
[133]
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (2001), стр. 61.
[134]
Например, GSK
сейчас
судится в
США, стараясь
установить действительность
патентов на
препарат Augmentin,
истекающие в
2017 и 2018 годах.
Производители
генериков
стараются
выйти на
рынок по истечении
первых
патентов в 2002
году. Патент
на широко
продающийся
препарат Paxil
недавно был
частично
отменен
Высшим судом
в Лондоне. См. GSK Suffers from Paxil
Patent Ruling Financial Times, 13
July 2002. Источник:
http://www.ft.com. Обзор
судебных дел
по патентам в
фармацевтической
промышленности
приведен в Pharma Sector Loses its Defensive Edge, Investors Chronicle, 19 June 2002.
Источник: http://investorschronicle.ft.com/IC/home
[137] Kumar, N. (2002), стр.28.
[139] Scherer, F. M. & Watal, J. (2001), стр.45.
[144] Borrell, J-R. & Watal, J.
(2002) Impact of Patents on Access to
HIV/AIDS Drugs in Developing Countries, CID Working Paper No. 92, Centre
for International Development, Harvard University, rd University, Cambridge MA, стр. 5. Источник:
http://www2.cid.harvard.edu/cidwp/092.pdf
[145] См. Scherer, F.M. (2001),
стр.116 118, где
приводится
опыт Канады и
Италии.
[146] В
Канаде, 16.1% всех
затрат на
научно-исследовательскую
и
разработочную
деятельность
в 2001 году было
направлено
на
фундаментальные
исследования;
44.1% на
клинические
испытания, 7.9%
на улучшение
производственных
процессов, 7.9%
на доклинические
исследования
и 24% на
получение разрешений
на препараты,
биоисследования
и
клинические
испытания
Этапа IV. Patented Medicines Prices Review Board (2002) Annual Report 2001, PMPRB, Ottawa, стр. 28. Источник:
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/english/06_e/06ann01_e.htm.
[148] См.
например, Indias Plague: Cheaper drugs may
help millions who have AIDS but how many will they hurt? The New Yorker, 17 December, 2001. Источник:
http://www.newyorker.com/
[149] Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (2002).
[150] См, например, отчет East African Access to
Essential Medicines Conference Improving Access to Essential Medicines in East
Africa: Patents and Prices in a Global Economy, конференция была организована Mιdecins Sans Frontiθres (MSF) и Health Action International (HAI), Найроби,
15-16 июня 2000 года.
Источник:
http://www.haiweb.org/mtgs/nairobi200006.html
[153] См. в
глоссарии
определение
терминов,
использующихся
в этом
предложении.
[154] См.
ниже
обсуждение
защиты
испытательных
данных.
[155]
Теория этого
сложнее, чем
указано, она
зависит от
сравнительной
гибкости
спроса. Хорошее
описание
этого
приведено в Scherer и
Watal (2001),
стр.45-49.
[156]
Полезная
документация
по
лекарствам
для ВИЧ/СПИД
есть в MSF (2002), стр.11-15.
[157] Maskus, K. (2000) Intellectual Property Rights in the Global Economy, Institute for
International Economics, Washington DC, стр. 210.
[158] Scherer и Watal
(2001), стр. 28.
[159] В ЗСО
нам сказали:
Соединенны
Штаты могут приобретать
предметы без
предварительного
получения
лицензии, при
условии
разумной и
полной
компенсации. Министру
не было
необходимости
пользоваться
этими
полномочиями.
Он смог
добиться
исторического
соглашения с Bayer,
обеспечив
беспрецедентное
производство
Cipro. Перед
началом
переговоров
с Bayer
министр
пояснил, что
если ему
нужны будут полномочия
для
получения
генериков, он
попросит об
этом
Конгресс.
Предложение
работы с
Конгрессом
по столь
важному вопросу
вряд ли
является
угрозой
компании. Министр
действовал
правильно в
вопросах патента
фирмы Bayer на препарат Cipro.
Личное
сообщение
д-ра Stuart Nightingale из ЗСО, 10
февраля 2002
года.
[160]
UNAIDS (2002), стр.145
[161]
Лекция
Кристофера
Гаррисона,
юридического
советника MSF, на
конференции MSF, CPTech, OXFAM и HAI Внедрение
декларации в
Дохе в
соглашение ТРИПС
и
техническая
помощь
здравоохранению как
добиться
правильного
соотношения,
Женева, 28
марта 2002 г.
[164] Это
включает
некоммерческое
правительственное
использование,
регулируемое
статьей 31
ТРИПС с
другими
обязательными
лицензиями.
[167] Более
того, в
случае
моратория
нельзя жаловаться
на
выигрывающую
от этого
другую входящую
в
организацию
страну, но
патентообладательможет
попросить национальный
суд
заставить
выполнять обязательства
по договору,
которые
страна-член
организации
обязана
выполнять
(этот случай
отличается
от случая
отказа от
прав, когда
отменяют
саму
обязанность).
[173] Такие
требования
типа первого
и дальнейшего
использования
принимаются
в ЕС и ряде развивающихся
стран,
включая
членов ARIPO и OAPI. См.,
например
патент ARIPO № AP868 и патентOAPI № OA09495.
[175] Thorpe, P. (2002) Implementation of the TRIPS agreement by Developing Countries,
Commission Background Paper 7, London, стр.20. Источник: http://www.iprcommission.org
[176]
Thorpe (2002), стр.8
[178] См. следующий раздел
[180] См.
определение
в глоссарии.
[181] См.
определение
в глоссарии.
[182] Эта
технология
еще
коммерчески
не внедрена.
[183] Pardey, P. & Beintema, M. (2001) Slow Magic: Agricultural R&D a Century
After Mendel International Food Policy Research Institute, Washington DC, стр. 10. Источник:
http://www.ifpri.cgiar.org/pubs/fps/fps36.pdf. Надо
помнить, что
эти цифры
основаны на
обменном
курсе равной
покупательной
способности,
который, по
мнению
авторов,
лучше отражает
сравнительный
порядок
величин. В обычных
долларах США
доля
развитых
стран
намного выше
(69% вместо 44%, см стр.
5).
[184] Pardey, P. & Beintema, M. (2001), стр. 4
[186] Pardey, P. & Beintema, M. (2001), стр. 8.
[188] Butler L. & Marion, B. (1985) The Impacts of Patent Protection on the US Seed Industry and Public Plant Breeding, Food Systems Research Group Monograph 16, University of Wisconsin, Madison.
[189] Shoemaker, R. et al (2001) Economic Issues in Biotechnology, ERS
Agriculture Information Bulletin No. 762, USDA, Washington DC, стр. 36.
[190] Alston, J. & Venner, R. (2000) The Effects of the US Plant Variety
Protection Act on Wheat Genetic Improvement, , EPTD Discussion Paper No.
62, International Food Policy Research Institute, Washington DC. Источник:
http://www.grain.org/docs/eptdp62.pdf
[191] Van Wijk, J. & Jaffe, W. (1995) Impact of Plant Breeders Rights in
Developing Countries Inter-American Institute for Cooperation on
Agriculture, San Jose, and University of Amsterdam.
[192] Rangnekar, D. (2002) Access to Genetic Resources, Gene-based
Inventions and Agriculture, Commission Background Paper, 3a, London, стр.39. Источник:
http://www.iprcommission.org
[193]
Louwaars, N. & Marrewijk, G. (1996), Seed
Supply Systems in Developing Countries,
Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, Wageningen
Agricultural University, Wageningen, p. 99.
[195] IPGRI выпустил
полезный
документ, в
котором обсуждены
моменты,
которые
развивающимся
странам надо
обдумать до
принятия специфических (sui generis) режимов. IPGRI (1999) Key Questions for Decisionmakers: Protection
of Plant Varieties under the WTO TRIPS Agreement, IPGRI, Rome.
Источник:
http://www.ipgri.cgiar.org/publications/pubsurvey.asp?id_publication=41.
Более детальный обзор приведен в
Leskien, D. & Flitner, M. (1997) Intellectual
Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a Sui Generis System,
Issues in Genetic Resources No. 6, IPGRI, Rome. Источник: http://www.ipgri.cgiar.org/publications/pubfile.asp?ID_PUB=497
[199] Эта
идея из Leskien и Flitner (1997).
[201] См.
Директиву 98/44EC,
Статья 9 (а
также Статья
8).
[203]
Потенциальные
преимущества
и риск генетически
модифицированных
культур для
развивающихся
стран
обсуждены в Nuffield Council on Bioethics (1999) Genetically Modified Crops:
The Ethical and Social Issues Nuffield Council on Bioethics, London, Chapter 4.
Источник: http://www.nuffieldbioethics.org/filelibrary/pdf/gmcrop.pdf
[205] Pardey, P. и Beintema, M. (2001), стр.19.
[206] Barton, J. и Berger, P. (2001)
стр. 4.
[208] См.
определение
в глоссарии.
[209] См.
например, два
недавних
соглашения,
объявленных
2/3 апреля 2002 г.
между Monsanto и DuPont, и Monsanto и Ceres.
Источник: http://www.monsanto.com/monsanto/media/02/default.htm
[210]
Шестью
большими
компаниями,
обычно, считаются
AstraZeneca, Aventis, Dow, DuPont, Monsanto и Novartis,
которые
стали пятью в
2000 году после
слияния сельскохозяйственных
подразделений
Novartis и AstraZeneca.
[214] Shoemaker, R. et al (2001), стр.37.
[215] Гены
не являются
микроорганизмами,
при строгом
узком
определении
ими не
являются и клеточные
линии, хотя,
например,
британское
патентное
законодательство
рассматривает
их в качестве
микроорганизмов. See
Руководство
британского
патентнного
бюро по
практике
патентования,
Раздел 1.40. См. также Microorganisms, Definitions and Options under TRIPS, Occasional Paper 2, QUNO, Geneva.
[216] См.
определение
в глоссарии.
[218]
Постановление
IUPGR 4/89
[220]
МДГРРПСХ
Статья 18.5
[221] МДГРРПСХ
Статья 12.3 d)
[222]
Контракт-соглашение
поставщика и
получателя
материалов с
изложением
условий передачи.
[223] Если
нет на то
иных
указаний, до
конца этого
раздела
ссылки на
традиционные
знания считаются
также
относящимися
и к фольклору.
[225] В
статье 8j КБР
говорится о
том, что
Члены должны
уважать,
сохранять и
оказывать
поддержку
знаниям,
инновациям и
практике
коренных и
местных
общин,
олицетворяющих
традиционный
образ жизни,
соответствующий
охране
окружающей
среды и
устойчивому
использованию
биологического
разнообразия,
поощряя
более
широкое
применение, с
разрешения и
с участием
владельцев
таких знаний,
инноваций и
практики, при
равноправном
распределении
выгод от
использования
таких знаний,
инноваций и
практики.
Источник: http://www.biodiv.org/convention/articles.asp
[226] См.
определение
в глоссарии.
[227] См.
определение
в глоссарии.
[228] Более
подробная
информация о
ведущихся дебатах
приведена,
например в The State of the Debate on TK
справочной
записке,
подготовленной
секретариатом
ЮНКТАД для
Международного
семинара по
системам
защиты и
коммерческого
использования
традиционных
знаний, в
частности
традиционных
лекарств, 3-5
апреля,
Нью-Дели.
ИAточ=ик: http://www.unctad.org/trade_env/test1/meetings/delhi/statedebateTK.doc
[236]
Система
защиты Sui generis
является
специфической
системой,
подобранной
или
модифицированной
в
соответствии
с особыми
характеристиками
и свойствами
традиционных
знаний и
фольклора. Такие системы
уже
существуют
для защиты
культур растений
(система
УПОВ) и
защиты баз
данных (Директива
ЕС 96/9/EC от 11 марта 1996 г.
Источник: http://www.eurogeographics.org/WorkGroups/WG1/eu_directive.pdf)
[240] Milpurrurru и другие v. Indofurn Pty Ltd и
другие (1995) 30
ПНИС 209
[242]
Шестая
встреча
конференции
сторон по
конвенции по
биологическому
разнообразию,
Гаага,
Нидерланды, 7-19
апреля 2002 г. Решение
VI/24 C 3(b) требует
дальнейшего
анализа роли
обычного
законодательства
и практики в
защите генетических
ресурсов,
традиционных
знаний,
инноваций и
практики и их
соотношения
с ПНИС. Источник:
http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?lg=0&m=cop-06&d=24
[245] В
качестве
примера,
Национальный
фонд инноваций
Индии
стремится
получить ПИС
местных
изобретателей
и владельцев
традиционных
знаний до
передачи их
инноваций
или знаний
третьим
сторонам.
Согласовывается
также и
раздел выгод.
Источник: http://www.nifindia.org/benefit.htm
[259] См.
Общие
указания по
участвующим
ботаническим
садам и
другие
примеры в Laird, S. (ed.) (2002) Biodiversity and Traditional Knowledge
Equitable Partnerships in Practice, Earthscan, London. стр. 51-53
[260] Pires de Carvalho, N. (2000) Requiring Disclosure of the Origin of
Genetic ReИсточникs and Prior
Informed Consent in Patent Applications without Infringing the Trips Agreement:
The Problem and the Solution, Washington University Journal of Law and
Policy, vol. 2, стр.371-401.
Источник:
http://www.law.wustl.edu/Journal/2/p371carvalho.pdf
[261]
Precision Instrument Mfg. Co v Auto. Maint. Mach. Co. 324 США
806 (1945)
[262]
Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240, 245 (1933) цитируя Deweese v. Reinhard, 165 США 386, 390
(1887).
[271]
Связанное с
происхождением
название это "географическое
название
страны,
региона или
местности,
служащие для
обозначения
продукта,
качества и
характеристик,
исключительно
или
существенно
связанных с
географией
окружающей
среды,
включая
естественные
и
человеческие
факторы",
Статья 2 Лисабонского
соглашения
по защите
названий.
Источник: http://www.wipo.org/treaties/registration/lisbon/
[278] См., например, Oman, R (2000) Copyright engine of development, ЮНЕСКО, Париж. Эта
книга
доступна на
Интернете в
качестве
электронной
книги по цене
10.67 евро. Цена включает
возможность
онлайнового
изучения
книги без ее
распечатки,
что является
хорошим
примером
технологической
защиты на
Интернете.
Источник: http://upo.unesco.org/ebookdetails.asp?id=3004
[279]
Источником
этих данных
является
Индийская
национальная
ассоциация
компаний программного
обеспечения
и
обслуживания
(NASSCOM) http://www.nasscom.org/it_industry/sw_industry_home.asp
[281]
Story, A. (2002) p.53.
[284] История Протокола и Приложения описана в Ricketson, S. (1987) The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986,
Kluwer, London, Раздел 11.
[285]
Ricketson, S. (1987), стр.
591
[286]
Например, по
оценкам
Альянса
делового программного
обеспечения,
уровень
нарушений,
связанных с
компьютерным
программным
обеспечением,
составлял в 2000
году,
соответственно,
97% и 94% во
Вьетнаме и
Китае. Business Software Alliance (2001) Sixth Annual BSA Global Software Piracy
Study, BSA. Источник:
http://www.bsa.org/resources/2001-05-21.55.pdf
[287]
Например, по
данным
Альянса
делового
программного
обеспечения
(2001) только на
Северную
Америку,
Западную
Европу и
Японии приходится
свыше 65%
глобальных
убытков от
контрафактного
копирования
компьютерных
программ.
Необходимо,
однако,
отметить,
что
методология
этих работ
была раскритикована
из-за того,
что эти
работы
основаны на
различиях
между между
оценкой
установленного
программного
обеспечения
и примерными законными
поставками,
оцененных по
цене законных
поставок. Но
критики
ссылаются на то,
что в
отсутствие
пиратства,
дополнительный
законный
сбыт
необходимо
был бы
намного ниже.
Исходя из
этого,
некоторые
утверждают, что
убытки
значительно
переоценены.
[288] Ввиду
числа этих
инициатив,
назвать их
все здесь не
представляется
возможным, но
вероятно,
наилучшим
известным
примером
является
инициатива
ВОЗ по
Интернетному
доступу к
научно-исследовательским
материалам
по здравоохранению
(HINARI), в
соответствии
с которой 100
развивающихся
стран имеют
онлайновый
доступ к
приблизительно
1000 ведущим
медицинским
журналам. Более
подробное
описание
таких
инициатив в
отношении
развивающихся
стран
приведено на
сайтах: http://www.alpsp.org/htp_dev.htm и http://www.library.yale.edu/~llicense/develop.shtml
[289]
Отчет
комитета по
рассмотрению
законодательства
по авторским
правам и дизайну
под
председательством
судьи
Уитфорда (the Whitford Report),
представленного
британскому
парламенту в
1977 году;
Временное
решение
британского
суда по защите
авторских
прав в
процессе
университеты
Великобритании
v. CLA
сентябрь 2001
Источник: http://www.patent.gov.uk/copy/tribunal/uukvcla.pdf:
[291] [291] Altbach (1995) Copyright and Development: Inequality in the Information Age, Bellagio Publishing Network, Boston MA; and Bgoya, W. et
al (1997).
[292]
Рабочая
группа по
книгам и
учебным
материалам
Ассоциации
развития
образования
в Африке
(АРОА)
Источник: http://www.adeanet.org/workgroups/en_wgblm.html
[293] В 1980-х
годах
общественные
затраты на
одного студента
ВУЗа в
Африке, к югу
от Сахары,
упали с 6300
долларов США
до 1500 долларов
США в реальном
выражении, а
в 1990-х
годах
произошло
дополнительное
30%-ное падение. Saint,
W. (1999) Tertiary Distance Education
and Technology in Sub-Saharan Africa, ADEA Working Group on Higher
Education, Washington DC.
[294]
Например, по
данным
ЮНЕСКО (1998),
Всемирный
Банк
предоставил
сенегальскому
правительству
заем в 15.8 млн
долларов США
на улучшение
библиотек в
университете
им. Шейха Ант
Диоп в
Дакаре.
[295]
Например, в
университе
Дар-эс-Салама
в Танзании на
100 студентов
приходится
один библиотечный
учебник,
причем
учебники, как
правило,
старые, не
возобновленные
как минимум
два издания. Rosenberg, D. (1997) University Libraries in Africa: A Review of their Current State and Future Potential, International African Institute, London.
[296] ЮНЕСКО (1998), Раздел 4.
[297] См. Journal
Wars The Economist, 10 May 2001.
[298] Altbach, P. (1995), стр. 7
[299]
Маловероятно,
что ситуация вскоре
изменится.
Существуют
значительные
препятствия,
не связанные
с ИС,
предотвращающие
существенную
разработку
программного
обеспечения
фирмами
развивающихся
стран, по
меньшей мере
в
краткосрочной
и среднесрочной
перспективе.
Одно из них
малый
внутренний
рынок
развивающихся
стран,
составляющий
всего менее 5%
глобального
рынка программного
обеспечения. ОЭСР
(2000) "Information Technology Outlook 2000", OECD, Paris,
стр. 67. Источник:
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/prod/it-out2000-e.htm
[300]
Достаточно
привести
всего лишь
один пример:
деловое
программное
обеспечение StarOffice,
выпускаемое Sun Corporation, полностью
совместимо с
крайне
популярным
продуктом
фирмы Microsoft Office и может быть
бесплатно
введено с web-сайта
фирмы.
[301] См.
определение
в глоссарии.
[302]
Известным
примером
программного
обеспечения
с открытым
источником
является Linux,
операционная
система типа Unix для
персональных
компьютеров,
разработанная
университетом
Хельсинки в
1991году,
которая
полностью
доступна без
оплаты. Linux
распространяется
с
источниковым
кодом по
общей
публичной
лицензии.
[303]
Lyman, стр. (1996) What is a Digital Library? Technology,
Intellectual Property, and the Public Interest, Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences,
vol. 125 No. 4, стр. 12
[304]
Дополнительная
информация
приводится на
сайте www.avu.org
[310]
Письмо
Роберту Гуку,
5 февраля 1676
года
[311] Merges и Nelson (1990), стр. 916
[312] См.
определение
в глоссарии.
[314]
«Рентоискательство»
-
используемый
экономистами
термин,
демонстрирующий
отрицательное
(с социальной
точки зрения)
стимулирование
монопольной
ренты в
результате
разнообразных
мер
правительственного
рыночного
вмешательства.
Одним из
примеров этого
являются
ПНИС. Здесь основополагающей работой является : Krueger, A (1974) "The Political Economy of the Rent-Seeking
Society," American Economic Review, 291-303 Vol. 64 (3) стр. 291-303.
[317] Например UNCTAD (1996) "The TRIPS
Agreement and Developing Countries", UNCTAD, Geneva, Doc. No. UNCTAD/ITE/1; Correa, C. (2000) Intellectual Property Rights, The WTO and
Developing Countries, Zed Books, London & Third World Network, Penang;
Heald, P. (2002) Intellectual Property Strategies for Developing Countries:
Flexibility, Leverage, and Self Help Within the Framework of the TRIPS
Agreement (mimeo).
[318] ТРИПС, Статья 27(1).
[319]
Например в
Статье 54(5) ЕПК
говорится о
том, что требование
новизны не
должно
предотвращать
патентования
любого
новейшего
состава «в
состоянии
разработки»
для
использования
в упомянутом
в Статье 52
(пункт 4)
методе, при
условии, что
данное использование
в этом методе
не включает
указанного
состояния.
Суды также
пришли к
выводу, что
разрешается
вторичное и
последующее
использование
известных
составов. При
вынесении
своего
решения суды
«придерживались
особой точки
зрения на
концепцию
состояния
разработки»,
Решение ЕПВ G83/0005.
Источник: http://www.european-patent-office.org/legal/epc/gdechtml/en/g583.htm
[320] В
соответствии
с
разрешением,
содержащимся
в соглашении
ТРИПС, в
статьях 27(3)(b) и (a)
соответственно.
[322] На эту
тему с нами
связались
представители
ряда
неправительственных
организаций, которые
желали бы
внести в
ТРИПС
поправки, касающиеся
патентования
живых
организмов.
[324]
Статьи 5 и 6
Биотехнологической
директивы ЕС
(Директива ЕС
98/44) ограничивают
патентование
генетические
материалов
человека и
животных.
[325]
Статья 56 ЕПК, 35USC S103. В рамках
ЕПК,
практикующимся
в какой-либо области
лицом
является
обычное
квалифицированное
лицо,
знакомое с
общераспространенными
в указанной
области
знаниями, но
не способное
к
изобретательной
дятельности.
В Канадском
законодательстве
подразумевают
квалифицированное
практикующееся
лицо без
малейшей
искры
изобретательности
или
воображения,
очень
старательное,
но без
какой-либо
интуиции
победа левого
полушария
головного
мозга над
правым. Beloit Canada Ltd v Valmet
OY 1986, 8 CPR (3d) 289
[328] ЕПВ,
решение
отменяющее EP0630405
(Корпорация ICOS) 20 июня 2001
(не
сообщалось).
[330] Биоgen Inc v Medeva plc ,
рассматривалось
палатой
лордов в 1997 г., RPC 1
[331] Nuffield Council on Bioethics (2002) стр.
73-74.
[332] В
Японии любое
лицо может
возражать
против
предоставления
патента в
течение
полугода
после публикации
информации о
предоставлении
патента. B ЕПВ
период
подачи
возражений
начинается после
предоставления
патентных
прав и длится
девять
месяцев. В
патентном
ведомстве
США, в случае
серьезных
сомнений по
вопросам
патентоспособности,
можно
просить о пересмотре
патента в
любое время
на протяжении
срока
патента.
Процедура
возражений до
предоставления
патента
существует в
Индонезии, по
статье 45
патентного
законодательства
(№ 14, 2001 г.) и в
Андском
сообществе,
по статье 42
Постановления
486 от 14 сентября
2000 года.
[333] Scherer, F.M. (2001) The Patent System and Innovation in Pharmaceuticals, Revue Internationale de Droit Economique, (Special Edition, Pharmaceutical Patents, Innovations and Public Health), стр. 119.
[334]
Например,
согласно
Статьям 48 и 49
патентного законодательства
Китая от 2000
года, обязательная
лицензия
может
предоставляться
физическому
или
юридическому
лицу, попросившему
- на
разумных
условиях -
разрешения у
патентообладателяиспользовать
его изобретение,
но такие
усилия
прилагаемые
в течение
разумного
периода
времени
-оказались
безуспешными,
либо когда
того требует общественный
интерес.
[338] Correa, C. (ожидаемая публикация)
Protection and promotion of traditional
medicine South Centre, Geneva.
[339]
Статья 62
ТРИПС
позволяет
странам-членам
организации
требовать
соблюдения
разумных
процедур в
качестве
условия
приобретения
прав на ИС.
При
урегулировании
в ВТО дела,
касавшегося
раздела 211
Расширенного
акта приобретений
США, эксперты
отметили, что
ТРИПС не запрещает
странам-членам
организации
отказывать в
регистрации
торгового
знака на том
основании,
что
заявитель не
является владельцем
торгового
знака, по
определению
соответствующих
законодательств
стран-членов
организации
(пункт 8.56
Документа
ВТО № WT/DS176/R). Это,
повидимому,
относится и к
патентам.
[341] В
некоторых
юрисдикциях,
например, в
Германии,
уровень
изобретательного
шага для получения
меньшего
патента не
уступает уровню
полного
патента.
[346]
«Китайские
институты
могут
сохранять у
себя интеллектуальнуюя
собственность»,
Jia Hepeng, 21
мая 2000.
Источник: http://www.scidev.net
[347]
Информация
ВОИС на
основании
статистических
данных 2001 года
о заявках.
[348] Dasgupta, P. and David, P. (1994)
Towards a New Economics of Science, Research
Policy, vol. 23, стр. 487-521.
[352]
Association of University Technology Managers (2002), стр.10
[354] Colyvas, J. et al (2002)
[357]
Sampaio, M. and Brito da Cunha, E. Managing Intellectual Property in Embrapa:
A Question of Policy and a Change of Heart, in Cohen, J. (ed.) (1999) Managing Agricultural Biotechnology:
Addressing Research Program Needs and Policy Implications, ISNAR/CABI, The
Hague, стр. 240-248.
[358] См.
документы,
поданные
Дэвидом
Мартином для
обсуждения
за «Круглым
столом
Конгресса» 10
мая 2001 года, где
утверждается,
что свыше 30%
патентов США
могут иметь
одну или
более патентных
формул общих
с другими
патентами.
Источник: http://www.house.gov/judiciary/martin_051001.htm
[359]
Shapiro, C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and
Standard-Setting, in Jaffe,
A., Lerner, J. and Stern, S. eds. (2001) Innovation
Policy and the Economy: Volume I, MIT Press, Cambridge MA, p.3. Источник:
http://haas.berkeley.edu/~shapiro/thicket.pdf
[360]
Показания 28
февраля 2002 г.
Источник: http://www.ftc.gov/opp/intellect/barrrobert.doc
[365] Walsh. J. et al (2000) стр.31
[366] Презентация
Грега
Галлоуэя (Falco-Archer) на
конференции
Комиссии,
Лондон 21-22
февраля 2002 г; и
презентация
Мелинды Мори
(PATH) на
встрече-семинаре
Комиссии по
инструментам
научно-исследовательской
деятельности,
Лондон, 22
января 2002 г.
Источник: http://www.iprcommission.org
[367]
Примерs
презентации
Виктории
Хенсон-Апполонио
на
встрече-семинаре
Комиссии по
инструментам
научно-исследовательской
деятельности,
Лондон, 22
января 2002 г.
Источник: http://www.iprcommission.org
[368] Kryder, R., Kowalski, S. &
Krattinger, A. (2000) The Intellectual
and Technical Property Components of Pro-Vitamin A Rice (Golden Rice): A
Preliminary Freedom-to-Operate Review, ISAAA Briefs No. 20, International
Service for the Acquisition of Agri-biotech Application, New York. Источник:
http://www.isaaa.org/publications/briefs/Brief_20.htm
[371] ОНП
сокращение,
означающее
одиночные
нуклеотидные
полиморфизмы,
являющиеся
изменениями
основных
составляющих
ДНК
(одинарных
базовых пар),
которые
могут быть
связаны с
болезнями и
другими
генетическими
изменениями.
[379] В
системе
первой
заявки
патент
предоставляется
первому лицу,
подавшему
патентную
заявку. В
подавляющем
большинстве
стран
существует
именно такая
система. В
противоположность
этому, в США
существует
система
первого
изобретателя,
в
соответствии
с которой
патент принадлежит
первому лицу,
сделавшему
изобретение.
[381]
Необходимо
отметить, что
многим
развитым странам
координировать
политику ИС
тоже непросто,
хотя, обычно,
не по
причинам
отсутствия
экспертных
технических
знаний.
[382]
Интересный
случай
изучения
области генетических
ресурсов
растений
описан в Petit, M. et al (2001) Why Governments Cant Make Policy:
The Case of Plant Genetic Resources in the International Arena, CIP, Lima. Источник: http://www.cipotato.org/market/whygov/FlyerGR1.pdf
[383] С
января 1996 года
по декабрь 2000
года 119
развивающихся
стран и
региональных
организаций
воспользовались
помощью ВОИС
в подготовке проектов
законов по
ИС. См. WIPO (2001a) WIPOs Legal and Technical Assistance to Developing Countries For the
Implementation of the TRIPS Agreement From January 1 1996 to December 31 2000,
WIPO, Geneva. Источник:
http://www.wipo.org/eng/meetings/2000/ace_ip/pdf/wipo_trips_2000_1.pdf
[384]
Drahos, P. (2002) Developing Countries
and International Intellectual Property Standard-Setting, Commission
Background Paper 8, London, p 21. Источник:
http://www.iprcommission.org
[385] Институт экономических исследований
(1996) Study on the Financial and Other
Implications of the Implementation of the TRIPS Agreement for Developing
Countries, WIPO, Geneva
[387] В
момент
написания
этого отчета
членство Мадридской
системы (70
стран) было
намного менее
многочисленным,
чем ДПС (115
стран).
[388] В
соответствии
с web-сайтом
ВОИС ПИСВ
обеспечивает
каналы
поиска для
широкого
круга
пользователей
из
развивающихся
стран,
пользующихся
помощью
ведомств индустриальной
собственности
стран, согласившихся
оказать им
содействие
по осуществлению
такого
поиска. Поиск
бесплатный, а
при некоторых
запросах,
например со
стороны ARIPO, проводится
и патентная
экспертиза.
Со дня начала
программы в 1975
году до конца
июля 2001 года
была
бесплатно
осуществлена
поисковая
работа почти
в 15000 случаях по
запросам из
более, чем 90
развивающихся
стран, 14
межправительственных
организаций
и стран с
переходной
экономикой. В
2000 году было получено
1315 поисковых
запросов из 39
развивающихся
стран.
Временами
это включало
и работу по
анализу
новизны и
патентную
экспертизу
заявок,
поданных в
развивающихся
странах, а
также особые
требования
поиска и патентной
экспертизы
со стороны ARIPO. В начале 1990-х
годов
большинство
запросов приходило
из Азии и
тихоокеанского
региона; в
последнее
время
большую
активность
проявляют
пользователи
из Латинской
Америки.
[389] Более
подробная
информация о
региональных
системах
индустриальной
собственности ARIPO и OAPI
приведена в Leesti, M. & Pengelly, T. (2002) Institutional Issues for Developing Countries in Intellectual Property Policymaking,
Administration and Enforcement, Commission Background Paper 9, London, стр.38-39.
Источник: http://www.iprcommission.org
[390]
UNCTAD (1996) The TRIPS Agreement and
the Developing Countries, UNCTAD, Geneva.
[394] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), стр.109
[395] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), Раздел 3.5.
[396] Было,
например,
подсчитано,
что
примерный уровень
контрафактного
копирования
компьютерного
программного
обеспечения
в 2000 году
составлял во
Вьетнаме и
Китае 97% и
94%
соответственно.
Business Software Alliance (2001) Sixth
Annual BSA Global Software Piracy Study, BSA. Источник:
http://www.bsa.org/resources/2001-05-21.55.pdf
[397]
Например,
только на
Северную
Америку, Западную
Европу и
Японию
приходится
свыше 65%
глобальных
убытков от
контрафактного
копирования
компьютерного
программного
обеспечения, Business Software Alliance (2001)
[398] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), стр. 95.
[399] В США,
например,
решая вопрос
о том,
налагать ли
предварительный
запрет, суды
традиционно
пользуются
четырьмя
испытательными
случаями
юридического
равноправия.
Сюда входит и
анализ того,
существует
ли разумная
вероятность
признания
действительным
патента,
который противная
сторона
желает
признать
недействительным. При
этом,
предполагается,
что
правообладателю
будет
нанесен
ущерб,
который
уравновешивается
ущербом,
причиненным
обвиняемому
в патентных
нарушениях,
при неверном
решении о
запрете.
Принимается
во внимание и
общественный
эффект
запрета
(например, в
отношении
доступа к
медицинским
препаратам).
Запреты
очень редко
предоставляют
inaudita parte. См. Chisum, D. (2000)
Chisum on patents. A treatise of the law
of patentability, validity and infringement, Lexis Publishing, США.
[401] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), стр. 32
[402] Correa, C. (1999), стр.1
[403] Планируемый доход ВОИС
в 2002/3 гг
составляет 530 млн
швейцарских
франков,
включая доходы от
сборов,
превышающие 455 млн швейцарских
франков.
[404] Если бы сборы ДПС оставались на уровне 1996-1997 гг и
не были бы существенно
снижены,
доход ДПС за 2002-2003 гг
составлял бы
на 279 млн
швейцарских
франков
больше, см. ВОИС (2001b).
[405] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), стр. 44
[407] См.
Врезку 0.1 в
Обзоре ТРИПС.
[411] См.
Статью 4
Конвенции
[414] Той же точки
зрения
придерживаются
ВОЗ и ЕС, в
совместном
заявлении
которых
после встречи
в Брюсселе 6
июня 2002 года
говорится:
ВОЗ также
будет
стремится, по
необходимости,
тесно
сотрудничать
с ВТО и ВОИС в
вопросах
технической
помощи
развивающимся
странам,
внедряя соглашение
ТРИПС в
соответствии
с положениями
Декларации в
Дохе.
Источник: http://www.who.int/inf/en/pr-2002-45.html
[416] Например, Correa, C. (2000) Intellectual Property Rights, the WTO and
Developing Countries: the TRIPS Agreement and Policy Options, Zed Books,
New York & Third World Network, Penang
[417] См. Thorpe,
P. (2002) The Implementation of the TRIPS
Agreement by Developing Countries, Commission Background Paper 7, London. Источник:
http://www.iprcommission.org
[420]
Измененное
типовое
законодательство,
которое,
несомненно,
является
улучшением
виденного
нами
прежнего
варианта
законодательства,
все-таки
упускает ряд
важных
вопросов как
в тексте, так
и в сопровождающих
его
комментариях.
Сюда входят
вопросы
патентования
компьютерных
программ и
биологических
материалов,
таких как
гены и прочие
природные
материалы. Мы
считаем, что
в
законодательстве
должны
подчеркиваться
- по крайней
мере в
комментариях
различные
мнения и по
другим
вопросам,
таким как
фермерские
права, права
в отношении
потомства
запатентованных
материалов и
другие
исключения к
патентным
правам,
например,
использование
в
образовательных
целях. Можно
также
обсудить
разные
соображения
по вводу в
тех или иных
странах
принудительного
лицензирования,
разумеется, с
оговорками, касающимися
возможного
несоответствия
международным
соглашениям.
Можно более
открыто
обсудить и
другие
вопросы,
такие как
истолкование
новизны,
изобретательного
шага и
индустриальной
применимости
(см. раздел 6)
или раскрытие
происхождения
биологических
материалов
(раздел 4).
[422] См. Lall,
S. & Albaladejo, M. (2001) Indicators
of the Relative Importance of IPRs in Developing Countries, UNCTAD/ICTSD,
Geneva. Источник:
http://www.ictsd.org/unctad-ictsd/docs/Lall2001.pdf В этом
отчете
изложены
разнообразные
меры укрепления
научно-технического
потенциала
развивающихся
стран.
[423] Drahos, P. (2001) Developing Countries and International Intellectual Property
Standard-Setting, Commission Background Paper 8, London. Источник:
http://www.iprcommission.org
[424] В Торговом
Акте 2002 года
(Ускорение
полномочий), HR3009, говорится:
"Основной
переговорной
задачей
Соединенных
Штатов в
отношении
торговых
аспектов интеллектуальной
собственности
является:
(A)
дальнейшее
поощрение
адекватной и
эффективной
защиты прав
на интеллектуальную
собственность,
в том числе
путем:
(i) (I)
обеспечения
ускоренного
и полного
внедрения
Соглашения
по торговым
аспектам прав
на
интеллектуальную
собственность,
упомянутого
в разделе 101(d)(15)
Акта о соглашении
Уругвайского
раунда
переговоров
(19 U.S.C. 11 3511(d)(15)), в
частности, в
отношении
правоприменительных
обязательств
по
указанному
соглашению;
и
(II)
обеспечения
такого
положения,
при котором
любые
подписываемые
Соединенными
Штатами
многосторонние
или
двусторонние
торговые
соглашения,
регулирующие
права на
интеллектуальную
собственность,
отражают
стандарты
защиты,
аналогичные
стандартам
законодательства
Соединенных
Штатов;
(ii)
обеспечения
полной
защиты новых
и зарождающихся
технологий и новых
методов
передачи и
распределения
продуктов на
основе
интеллектуальной
собственности;
(iii)
предотвращения
или
устранения
дискриминации
в вопросах,
касающихся
наличия, приобретения,
масштабов,
поддержания,
использования
и
правоприменения
прав на интеллектуальную
собственность;
(iv)
обеспечения
соответствия
стандартов
защиты и
правоприменения
техническому
развитию, в
частности,
обеспечения
того, чтобы правообладатели
имели
необходимые
технологические
средства
контроля
использования
их работ
через Интернет
и прочие
глобальные
коммуникационные
средства,
будучи в
состоянии
предотвратить
неутвержденное
использование
своих работ;
и
(v)
обеспечения
полного
правоприменения
прав на
интеллектуальную
собственность,
включая
доступ к
быстрым и
эффективным
гражданским,
административным
и уголовным
правоприменительным
механизмам;
(B)
обеспечить
для граждан
Соединенных
Штатов,
полагающихся
на защиту
своей
интеллектуальной
собственности,
справедливый,
равноправный
и
недискриминационный
рыночный
доступ; а
также
(C) с
уважением
относиться к
Декларации о
соглашении
ТРИПС и
здравоохранении,
принятую
Всемирной
торговой
организацией
на четвертой
министерской
конференции
в Дохе, Катар, 14
ноября 2001
года.
Источник: http://waysandmeans.house.gov/
[426] В
настоящее
время это
политика
торгового
представителя
США, соответствующая
Торговому
Акту 2002 года.
[427] Weekes, J. et al (2001) A Study on Assistance and Representation of
the Developing Countries without WTO Permanent Representation in Geneva,
Commonwealth Secretariat, London.
[428] По оценкам
секретариата
Сообщества
общая
стоимость
учреждения и
работы
представительства
в Женеве, где
будут
работать 3-4 человека,
составляет,
примерно, 340000
долларов США
в год.
[429]
Michalopoulos, C. (2001) Developing
countries in the WTO, Palgrave, London
[430] Созданные по ДПС и
Мадридскому
соглашению
два администрируемых
ВОИС
договора
Ассамблеи
союзов
предусматривают
финансирование
проездных и
командировочных
расходов по одному
правительственному
представителю
из каждой
страны на
очередные и
внеочередные
заседания.
Кроме того,
по следам
решения
Ассамблей
стран-членов
ВОИС в
1999 году, ВОИС
является
спонсором
участия 26
правительственных
представителей
из разных развивающихся
стран и стран
с переходной
экономикой (fпо
пять из
Африки, Азии,
Латинской Америки
и Карибского
бассейна,
арабских стран,
определенных
стран Азии и Европы
и одного из
Китая) в
заседаниях
ряда комитетов
(по патентам,
торговым
знакам,
авторским
правам и
традиционным
знаниям). См. Leesti, M. & Pengelly,
T. (2002) Institutional Issues for
Developing Countries in Intellectual Property Policymaking, Administration and
Enforcement, Commission Background Paper 9, London, сноска 17. Источник:
http://www.iprcommission.org
[431]Например,
ЮНКТАД, в сотрудничестве
с
Международным
центром торговли
и
устойчивого
развития в
настоящее
время
внедряет
проект
обеспечения
развивающихся
стран
руководством
по внедрению
ТРИПС и по
предстоящим
пересмотрам
этого
соглашения.
Проект
финансируется
британским
министерством
по делам
международного
развития. См.
Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), стр.39-41.